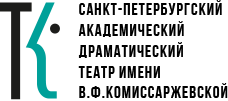ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
ТЕАТР ИМ.В.Ф.КОМИССАРЖЕВСКОЙ: НАШИ ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ.

ИНТЕРВЬЮ И ВОСПОМИНАНИЯ
ЗОТОВА ЭРНА ИВАНОВНА (род. в 1926 году), работала в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской в пожарной части.

Я закончила 7 классов в 1941 году, у нас даже был вечер выпускной. Когда началась война, мне не было шестнадцати. Быстро наступал немец, и молодёжь организовалась в бригады — мы баррикады строили на улицах. На улице Братства, на Выборгской начали строить огневые точки. Дома мы только ночевали. Потом начали списки составлять и записывать нас.
Мы жили до войны на территории ИЭМа (Институт экспериментальной медицины), и мои родители работали там. Когда началась блокада, я ещё не работала. Папа и мама работали, а я карточки отоваривала. Стояла сутками в магазине, чтобы их отварить и чтобы не пропал ни один талон. В январе 1942, после того, как в декабре паспорт получила, я пошла на работу. Ходила через Неву, через Невку, тогда лёд был крепкий, не то, что сейчас — ничего не мёрзнет. Нас, молодых, сразу перевели на казарменное положение, потому что бомбёжки были, и надо было справляться с этими бомбами горящими. Потом нас, пятнадцать тысяч женщин и девушек, в сентябре-октябре 1942 года провели через военкоматы. А получилось это из-за того, что военные строили вокруг Ленинграда ДОТы, ДЗОТы, всех мужчин отправили на фронт, а нас поставили на их место. Теперь мы стали строить ДОТы, ДЗОТы, копать окопы вокруг Ленинграда. Помню, строили точку возле Лесотехнической академии: она на бугре, и нужно было строить командный пункт пятнадцать метров глубину. В Академии был бетонный завод, так мы там, мелочь пузатая, тачки возили с цементом, заливали эти точки. А потом, когда наши пошли уже в наступление, нас отправили на лесозаготовки. Мы жили в землянках и палатках. Нам не дали ни пайка, ни одежды, были в своем. В основном, всё молодёжь была. Летом на минных полях, а зимой на лесозаготовках. А бригаду так и называли – «Минёры». У нас была бригадир – женщина пожилая, она говорила: «испортите весь свой организм». А что делать, работать-то нужно как-то. С пилой с топором, пилили, обрубали сучья, таскали этот лес, ещё складывали в штабеля, чтоб потом на машине можно было подъехать и забрать его. Самые старшие были, по-моему, 1921 года рождения. Оттуда нас сюда опять в Ленинград перевели, и мы жили на Московском проспекте, на Кузнецовской улице, ходили натягивать сетки под обстрелом, потому что немец был на Пулковских высотах. Потом пошли в наступающую армию. Армия пошла вперёд, а мы засыпали воронки. Потом нас, молодых, выстроили и спросили: «Хотите учиться на военные специальности?». Мы, естественно, хотели, но не знали, какие там есть специальности. Нас всех забрали, привезли на улицу Правды, раздели догола, как принимают в армию, через всех врачей провели и отправили на Невскую Дубровку учиться минному делу. Так организовался 217-й отдельный отряд разминирования. Там нам показали миноискатели, но миноискателем нельзя было работать, потому что он реагировал на все железяки, а наши мины были в основном деревянные: танковые мины М-5 и Ф-10 и пехотные мины по 200 граммов. Потом, когда мы выучились, взвод наш был отправлен в Пушкин. Мы жили в Пушкине и ходили шесть километров на Пулковские высоты на разминирование. В поле каждому давали участок пятьдесят на пятьдесят. Сначала делаешь себе тропинку, потом натягиваешь канат по границе участка и ощупью ходишь, ищешь, где чего есть. Я по звуку определяла, во что попадало – в деревяшку, в мину или в камень какой. У каждого был прибор минёра, и потом мы собирали эти мины в кучи. А потом я ещё стала работать подрывником. Нас было трое, мы на шоссе вставали по обе стороны и подрывали эти кучи мин. На Невской Дубровке, были очень страшные мины «спринг» — прыгающие. Их искать надо было либо рукой, либо голой ногой, и там три проводка было тоненьких, примерно как иголки швейные по полтора миллиметра, и они торчали из земли. И такая мина подпрыгивала на полтора метра, а в ней два стакана. И между первым и вторым стаканом шарики вложены. Эти шарики разлетались во все стороны. В общем, много погибало, конечно… Были мины и гранаты натяжного действия. Другой раз несу гранату, а она уже без чеки, я кричу: «Отойдите!» — не дай Бог, если гибнуть, то одной. А потом командир взвода такое мне выдал! Он нас, молодых, жалел, и кричал на меня, что нечего было её трогать, а нужно на месте подорвать, а ты, значит, ещё в руках её тащишь…
Папа умер в январе 1942 года от голода, маленький брат — в 1943 году. Брат простудился сильно — воспаление лёгких, туберкулёз — и умер. Мама, конечно, знала, что я работаю минером. Иногда нам давали выходной: девять дней работали, десятый – выходной. Мама страшно боялась, потому что у меня толовые шашки и шнуры бикфордовы были за пазухой со взрывателями положены. Ватник у меня был такой хороший. А толовые шашки у меня были под пулемётной лентой: такой сундучок хороший, чемоданчик, а там толовые шашки двухсотграммовые были, специально для подрыва. Когда я приезжала, мам всё боялась: «Не подорви дом-то»! Оставить это негде было, всё с собой возили.
Помню, когда объявили о победе: мы тогда жили в бывших немецких землянках и поехали на станцию Мшинская за продуктами. Приехали, а там объявляют про победу… Так мы там с лошадью целовались… А назад поехали и чуть не подорвались, там ещё мины оставались кое-какие.
После войны нас демобилизовали. Но потом отобрали тех, кто ещё помоложе, и они еще работали до 1946 года, разминировали мины в Новгородской области. 15 мая меня уже взяли на работу на завод. Целый месяц, пока оформлялся паспорт, всё выискивали — не вредители ли мы. На заводе я так до пенсии и проработала. А в театр я попала совершенно случайно. Приятельница моей дочери работала здесь в пожарной части, и меня утроила. Я недолго работала, но вспоминаю это время с радостью.
ПОЛЕТАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1937 г. р. Работала в пожарной охране
Когда началась война, мне было четыре года. Мы уехали из Ленинграда в местечко Копаево – это микрорайон в городе Рыбинске Ярославской области. Там жила моя бабушка, и все 8 сестер моей мамы со своими детьми тоже, как и мы, приехали к ней. Вместе было легче выживать. Все работали, и смотреть за мной было некому.
Помню, я как-то упала в реку Уткашь, которая впадала в Волгу. Я плыла на спине и видела небо. Не помню, кто меня вытащил. Еще помню, как на какой-то праздник мы ели настоящие пирожные – это мамины сестры получили какой-то праздничный паек. Помню, на песке, по берегу реки, мы рвали какие-то палочки-«столбики». Они были не зеленого, а желтого цвета, без листьев и вполне съедобные. Вдоль железной дороги мы тоже собирали какую-то траву. Еще помню сырки розовые – вкуснее них я ничего потом в жизни не ела.
Нас бомбили – мне казалось, что снаряд летает вокруг нашего дома. Там, в Рыбинске, были нефтебазы. Мы никуда не убегали, оставались в доме, потому что там бомбоубежищ не было.
Мы вернулись в Ленинград в 1944 году – после снятия блокады, и я пошла в первый класс. Мама работала в библиотеке на заводе Судомех, а я училась во вторую смену и часто оставалась дома одна. Помню такой случай: мы жили в Прачечном переулке, недалеко от Почтамтской улицы. И как-то я пошла в булочную, а по дороге ко мне подошла какая-то женщина – меня поразила ее муфта. Она назвалась сестрой моей мамы, и я проводила ее к нам домой. Она что-то у нас насобирала, а я ее даже проводила. Потом испугалась и побежала к маме, всё рассказала. Эту женщину, как ни странно, все-таки поймали – какая-то девочка оказалась более сообразительной.
Вначале я училась в 237 школе — около Почтамтского мостика. Это был какой-то бывший особняк. Там была внутренняя лестница, которая вела на третий этаж. Нужно было подниматься достаточно высоко. А наверху была площадка. Физкультурный зал (он же — актовый), как мне кажется, был переоборудован из танцевального зала.
Потом, уже в 8 класс, я пошла в 259 школу около Театральной площади на Крюковом канале. И вместе со мной туда перешли некоторые мои одноклассники из 237 школы. Мы до сих пор иногда собираемся, общаемся, связь поддерживаем.
Потом я поступила в Технологический институт и работала химиком. А в театр пошла работать, когда уже вышла на пенсию. Я благодарна судьбе, что работала в театральном коллективе. Здесь очень приятные люди. Мне очень жаль своих родителей, которые прожили невероятно трудную жизнь. Благодаря им я выжила и дожила до сегодняшних дней, мне даже удалось поездить по миру.
КАТУЛЬСКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА – «заряжающая»

Родилась в 1919 году на оккупированной территории германскими войсками (ныне – Белоруссия). В 1928 году приехала в Ленинград. В 1941 году была призвана в действующую армию и служила в артиллерии «заряжающей». В 1952 году поступила в Театр им.В.Ф.Комиссаржевской, где проработала 52 года костюмером.
Рассказывает Дмитрий Катульский, племянник Катульской Марии Гавриловны:
Тётя Муся (мы все так ее называем, и в театре ее так называют) родилась в 1919 году на оккупированной территории германскими войсками, когда по Брестскому договору Западная Белоруссия отошла Германии. У нее не сохранилось свидетельства о рождении. Тогда загсов не было, церковь вместе с церковными книгами сгорела, и документов не сохранилось. Моя мама уже родилась как бы на территории Белоруссии. Обе сестры были из семьи приходского священника. Хотя это и Западная Белоруссия, но он был православным священником. Потом в семье должен был родиться мальчик, но их мама при родах умерла вместе с мальчиком. Деревенскому православному священнику разрешалось второй раз жениться, потому что в деревне хозяйство надо вести.. Сейчас священнику второй раз жениться нельзя, он должен идти в монахи. Он второй раз и женился. Родились ещё две девочки. Всех детей было не прокормить, и старшую, тетю Мусю, отправили в Ленинград к дальним родственникам в няньки. А через два года уже моя мама сюда приехала. Я думаю, тетю Мусю и мою маму отправили в Ленинград, потому что они жили уже с мачехой. Так тетя Муся и работала с 9 лет, а всего работала — 76 лет! Моя мама впоследствии своих сводных сестер перетащила всех в Петербург, выучила.
В Белоруссии потом всю семью репрессировали, так как они были родственники священника – всех дальних родственников, даже каких-то двоюродных племянников потянули… Уже и церковь была разрушена, и дед мой уже работал счетоводом, но в 1937 году вспомнили, что он – бывший священник. Всех родственников сослали в Архангельскую область на поселение.
В 1936 году тетя Муся (Мария Гавриловна) окончила курсы полировщищ, а потом поступила на завод им. Егорова. Это был такой вагоностроительный завод, который метро строил, сейчас он строит трамваи. Полировщицы полировали сиденья стульев в электричках, поездах. А оттуда, в 1941-м, её взяли в действующую армию. Она служила в артиллерии и называлась «заряжающей». Снаряды в разобранном виде подвозили к передовой, а там были такие девушки, которые их собирали, вставляли капсулу и сразу к пушкам подвозили. Вот одной из таких девушек была тетя Муся. Линия фронта, проходила по ту сторону Карельского перешейка, далеко за Девяткино. Так тетя Муся всю войну прослужила на Ленинградском фронте. Куча медалей военных — а военного билета нет… Есть удостоверение фронтовика.
Когда блокаду порвали, их возвратили назад. Моя мама здесь работала санитаркой в детской больнице. Больницу детскую потом переделали для дистрофиков. Мама получала пайку служащих, а тетя Муся – военную. А эта пайка была гораздо больше. Благодаря этому она мою маму и ещё одну сестру спасла. Она и хлебом, и пайкой своими делилась.
Тетя Муся не любит про войну вспоминать. Рассказывала, как бревна таскали, чтобы выложить ими дорогу жизни. Тяжело было. При том, что она – маленькая, худенькая, рост 150 см., питание было ужасное. Вот ее самая главная медаль – «За Оборону Ленинграда», а вот – «За трудовую доблесть» и «За победу над Германией».
Тетя Муся всех любит – наших друзей, всех детей, которые к нам приходят. Она очень добрый человек – и балует всех вокруг себя – даже кошке позволяет всё. Она баловала меня, моего сына. Моя мама умерла уже давно. Они всегда вместе жили, потому что у тети Муси семья была, а детей не было. Она выходила замуж уже в 50-х годах. Муж ее очень рано умер. Он тоже некоторое время работал в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской (монтировщиком), дружил с дядей Сережей Боярским, и я с ним дружил.
Тетя Муся после войны вернулась на завод им. Егорова, а потом поступила в театр кукол слесарем. Она и мне приносила куклы тростевые, когда их списывали. Они с моей мамой вместе меня воспитывали и поставили на ноги. А в 1952 году тетя Муся пришла в Театр им.В.Ф.Комиссаржевской (ей было 33 года) костюмером и проработала здесь 52 года. Она даже побеждала на городском конкурсе «Лучший по профессии» — вот ее грамота. Еще помню, у нее на рабочем халате была такая брошка – муха, и многие ее звали – Муха. А каждый вторник я радовался, потому что в театре был выходной, и я проводил с тетей Мусей весь день. В театре ее тоже все очень любили. До сих пор о ней вспоминают, передают приветы и благодарности.
АМОСОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА. Работала в пожарной охране

Я родилась, наверное, в 1939. Почему «наверное» — мы у мамы с моими сестрами и братом шли погодками, и моя тетя не помнила, последняя я была или предпоследняя. Маму они встречали из роддома почти каждый год, поэтому в 1940 или в 1939 году я родилась – неизвестно. Тетя предлагала мне сходить в ЗАГС, что на Кировском проспекте, узнать, когда я зарегистрирована, но потом тетя умерла, а я так и не пошла.
Когда немцы подошли уже к Кировскому заводу, тогда и папу забрали в армию. С начала войны умерли мама, бабушка, два брата и моя сестра старшая. Из четырёх детей я осталась одна. Перед тем, как уйти на фронт, папа забежал к нам и обнаружил только меня одну. Мы жили на первом этаже в Гислеровском переулке (сейчас он Чкаловский проспект). Это было зимой. Мне, наверное, один день осталось жить, я сидела, уже вся замерзшая. Папа завернул меня и отнёс к крёстной, которая мне все и рассказала. Такую маленькую они не могли меня дома оставлять, потому что работали все, кто мог, и тётя Нина отравила меня в ясли-сад, который еще существовал в блокадном Ленинграде. Нас эвакуировали в 1943 году в Алтайский край. В 1945 году «садиковских» детей вернули из эвакуации, всех разобрали, кроме меня. Тетя тоже была в эвакуации, и они приехали всей семьей только в 1946 году. Когда меня папа принес к тете Нине, то документов никаких не взял, потому что не успевал. Как говорится, «труба звала», он вырвался навестить семью, а семьи-то уже и не было… Папа с тетей Ниной написали бирочку, кто я и откуда, и прикрепили мне на руку. И там что-то стерлось: фамилия и имя были указаны, а вот отчество, год рождения и дата были размыты. Это сейчас я Васильевна, а по папе я Александровна. Об этом я узнала из архивов, когда мы подавали документы на розыски отца. Поэтому и тётя искала меня десять лет и нашла, когда мне было уже лет семнадцать. По фотографии даже экспертизу делали: была фотография, где мне восемь месяцев, и сравнивали с той, где мне уже 16 лет. Таким образом, спустя годы от тёти я узнала немножко о своей судьбе.
В Алтайском крае, куда нас привезли в эвакуацию, своё хозяйство было, и мы не голодали. Я была краснощёкая, пухленькая, волосы были длинные, красивые, вьющиеся и густые. Меня два раза даже украсть хотели. На даче за мною гнались, и в трамвай меня тётка тащила, а воспитательница орала: «Остановите! Она ребёнка украла!». И после войны я была пухленькая, что было необычно. Поэтому воспитательница меня водила за руку, не отпускала.
Потом, когда нас вернули из эвакуации, я осталась одна, совсем одна, всех разобрали. Меня определили сначала в дошкольный детский дом, потом перевели в школьный. Дальше — училище, техникум, институт, и пошла, пошла. Вот так вот и вышла в люди.
Радио-механический техникум я закончила на Среднем проспекте и три курса Северо-Западного политехнического института. Работала я на заводе, который назывался раньше «Почтовый ящик». Это военный завод, который работал на военную промышленность. Я там сначала в конструкторском, а потом в технологическом отделах работала. Когда тетя меня нашла, я у неё мало прожила. Она житья мне не давала, было очень тяжело: «Ищи себе мужа, ищи мужа». Спортом заниматься тоже не давала, и я от неё ушла и стала снимать угол, пока действительно замуж не вышла.
Иногда мне так хотелось, мне так хотелось когда-нибудь сказать «мама», слово такое – «мама», «папа». Я даже иногда во сне говорила — «мама»… Особенно когда в жизни были моменты тяжеловатые, неприятные — мама бы помогла, если бы была рядом. И думаю, что это не только мне: наверное, всем, кто прожил без родителей, кто не знал этого слова, кто не знал ласки и заботы личной… Мы же все «казённые» дети, персональной заботы у нас не было. Хотелось, чтобы тебе кто-то лично ласковое слово сказал. Потом, когда уже выросла, закрутилось всё.
Меня же три раза удочеряли в детском доме. В первый раз меня не отдали, потому что не знали судьбу моих родителей: на отца ничего не было, непонятно было, жив он или нет, может, ищет меня, и решили «попридержать». Хотя, как мне потом рассказывала медсестра: «Ты бросилась к этому дядечке, ты ему по колено, схватила его, «Папа, папа!», — кричишь. Вас выстроили группой, ты выскочила, маленькая пигалица, из этой колонны и обхватила его. А он стоит — высокий здоровый мужик, и слёзы у него текут». Он очень хотел меня взять, но ему меня не отдали.».
Второй раз меня удочеряли, когда я уже училась в пятом классе. Там на Гаванской улице женщина со своей мамой жили, у них две комнаты в коммунальной квартире. И я не скажу, что дикая была, мне уже лет двенадцать было, но не было у меня какой-то тяги жить отдельно от девчонок своих, от своего коллектива.
А в третий раз меня удочеряли, когда я училась в седьмом классе. Приехал в детский дом мужчина, инвалид, работал главным инженером на каком-то заводе, детей в семье не было. Меня возили туда к ним домой, наша заведующая уже и мои документы, всё туда привезла. Когда мы приехали на улицу Марата, где они жили, его жена вокруг меня – как наседка. А он вот вышел, сел в углу и ни слова не сказал, ни слова! Вот если бы он сказал что-то, какое-то доброе слово, хотя бы одно, чтобы я хоть голос его услышала, может быть, я бы осталась. Но всё это время, пока я там находилась, он не сказал ни слова, и я поняла, что не нужна ему. Наверное, он согласился на это из-за своей жены, которая хотела ребенка, поэтому и выбрал постарше, чтобы я была ещё и помощницей его жене. Я смотрю на неё — вроде добрая душевная женщина, а на него посмотрю – всё, не хочу и всё! У меня сработал какой-то внутренний инстинкт, что мне будет плохо. Заведующая и эта женщина до двери меня уговаривали остаться. В детском доме мне сказали: «Ты что, десятилетку хочешь закончить? Не дадим». И отправили в училище. Я закончила училище и уехала по комсомольской путёвке на Урал, под Челябинск. Потом меня уже тётка нашла, и я вернулась в Ленинград. В 20 лет вышла замуж. Мне просто хотелось, чтобы у меня была семья, чтобы было о ком заботиться и чтобы об мне кто-то заботился. Муж заканчивал здесь Можайскую академию. Я не знаю, почему он на мне женился, почему он меня выбрал. Он очень умный был, заутюженный какой-то. После окончания Академии он получил распределение в Латвию и мы уехали. Но не сложилось, а вернулась в Ленинград. Он писал, просил вернуться, но я не захотела. Родился сын. Я много работала. Две работы приходилось брать, и всё это я делала для того, чтобы ему больше времени уделять и контролем его держать. Работала в детском садике, потом — начальником участка большого цеха, были премиальные хорошие. Я всё бросила и ушла страховым агентом работать, чтобы не упустить сына, чтобы он был перед глазами. И в театр, и в кино, и на выставки мы ездили. Я везде его возила. А когда в театр пришла работать в пожарную охрану начальником, сын все спектакли пересмотрел. Я следила за тем, чтобы у него время было занято, чтобы его не тянуло на улицу. А денег платили мало, вот и приходилось рано утром идти убирать, а потом на вторую работу – в театр. Сыну я рассказывала о войне, когда он еще школьником был. У меня сохранились хорошие отношения с моими подругами, друзьями из детского дома ещё. Мы встречаемся, общаемся, созваниваемся. Он знает их всех, кто ещё остался.
Сын окончил институт, юридический факультет, у него семья, дочки. Старшей внученьке от первого его брака уже пятнадцать, а от второго – год и десять, маленькая ещё. Теперь сын меня то на базу отдыха, то в еще в какую-нибудь поездку. Недавно в Финляндию ездили – маму не забывает. И я рада в театр приезжать, это как мой дом.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА ЛАНДГРАФ. Работала в театре им.В.Ф.Комиссаржевской с 1959 года, заведующей гримерным цехом — до 2017 года.

Я помню почти всё. Началась война, мама работала в номерном научно-исследовательском институте номер 13. Этот институт эвакуировали на Урал, в город Молотов (теперь это Пермь). Мой папа был артистом, артистов на фронт не брали, и ему еле-еле выхлопотали справку. Поехали мы всей семьёй в товарном вагоне. Было лето, меня забрали из яслей практически по пути. Помню, лошадь какая-то на телеге мчала нас к этому товарняку и завалилась в овраг. Мы все упали, но отделались лёгким испугом, даже не ушибом. Сели мы в товарняк, а там уже была мамина сестра с дочкой с маленькой, еще меньше меня. В товарном вагоне мы ехали неделю, останавливались, потому что бомбёжки были. Мне было спокойно, потому что родители рядом и они мне чуть ли не уши закрывали. Приехали мы в Молотов, неделю мы жили у кого-то в комнате. И до сих пор уже третье или четвёртое поколения уже молодых мне звонят из Перми на 1, 9 мая, в какие-то знаковые праздники..
Неделю мы пожили в этой комнате, потом нас поселили в гостиницу «Семиэтажка», где жили артисты Мариинского (тогда Кировского) театра, артисты ленинградской филармонии. Мама в своей НИИ-13 работала, а папа вместе с этими артистами давал концерты. Летом мы плавали по Каме на пароходе, который назывался «Плавучий клуб», там был театр, была сцена. Там были собраны артисты разных театров, которые обслуживали госпитали и разные городки. И я даже танцевала что-то. Помню кровати, бинты, я какие-то стихи читала, танцевала, всё, что я могла. Папа-то артист, и я кое-чего умела. Мы ездили по госпиталям, по городкам. А в Перми много раненых, масса госпиталей, потому что там не было войны. Но был дикий, безумный голод. Потом выдали какие-то карточки и стало легче.
Спустя годы, когда у нас в театре работал Михаил Михайлович Козаков, мы с ним разговорились. Он старше меня, но оказывается, мы с ним играли в этой «Семиэтажке». И вот это мы с ним вспомнили спустя годы. Я говорю: «Миша, это ты?», а он мне: «А это ты?» — и это воспоминание из детства было чем-то потрясающим. Мы баловались, скакали на креслах — дети есть дети.
Как-то загорелся клуб, а мы жили на третьем. И я помню, как нас с девочкой одной скидывали с третьего этажа, горело всё, а внизу держали одеяло. Это ночью было, и я помню, как я летела. Мы пришли чуть ли не в нижнем белье пешком с Камы домой. Хорошо хоть выжили, не сгорели. А потом, когда в 1945 году вернулись в Ленинград, жить было негде. У нас была квартира двухкомнатная на 8-й Советской, и ее заняли блокадники. Мы пришли, взглянули на наши обои, на нашу люстру. Еще там были мамины заготовки, она была хорошая кулинарка: холодильников еще не было, и между дверьми было очень много всяких солений, варений. Нас даже не пустили. А мы всё-таки выжили… Ну они тоже выжили! Мы ушли, жили в общежитии. Я с мамой, где все женщины. Как сейчас помню, 28 человек в комнате, 28 кроватей. Помню, как-то я жутко заболела: кашель у меня страшный, я бредила, температура 40. И все это в той комнате на 28 кроватей… А потом получилось так, что мамин двоюродный брат, военный, нас пустил в свою комнату в коммунальной квартире. А его куда-то призвали. И вот у нас просто счастье было: комната большая, 37 метров, у Крюкова канала. Это район Мариинского театра, хороший район. Он нас туда пустил, и я там прожила очень долго. Уже в театр поступила в 1959 году, вышла замуж за Станислава Ландграфа, и мы жили восемь лет с моими родителями в этих 37-ми метрах. Там два окна всего было и нам сделали тонкую перегородку (другую нельзя было). А потом нам отдельную комнатку дали в 6 метров, но это уже послевоенная история.
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХУДОЛЕЕВ.
Артист Театра им.В.Ф.Комиссаржевской. Заслуженный артист РФ:

Заслуженный артист России Худолеев Анатолий Григорьевич
Война пришла в каждый дом, принесла горе и страдания во многие семьи. Не обошла стороной и нашу. Мужчины воевали – служили пехотинцами, артиллеристами, лётчиками. Из всей многочисленной когорты родственников с войны пришел только мой дядя Паша, он дошел до Берлина. Из Германии он привёз маленькую девочку-немку и воспитал как родную дочь. Своих детей у них с женой не было, не успели до войны, и Таня (так они её назвали) стала для нас практически двоюродной сестрой. Я не забуду, как он прижимал её, маленькую к себе. Вообще, дядя Паша был изумительным человеком, у него был Богом данный педагогический дар, он очень помогал нам и поддерживал.
Могу сказать, что не люблю вспоминать детство. Отец наш погиб на войне, мама одна воспитывала троих детей. И не она одна – когда я пошел в школу, почти все ребята из нашего класса были без отцов. 1945-й запомнился тем, что во двор наконец-то вынесли столы и скамейки, было какое-то общее единодушие. Соседи вернулись из эвакуации в Средней Азии, оттуда привезли сладости. Мне было три года, я хорошо это запомнил: меня впервые угощали урюком.
В отличие от детей нынешнего поколения, мы были взрослее. Быстро взрослеешь, когда нет нормальной еды и жилищных условий. Мы видели страдания взрослых и чувствовали, что мало праздников выпало на нашу долю. Зато в школе начались мои самые светлые годы. Учителя, эвакуированные из блокадного Ленинграда, уже в юном возрасте заложили в нас основные человеческие качества – понимание любви к Отечеству и к близким, научили справляться с суровостью жизни. Они не жалели на нас времени, приходили домой, если кто-то недотягивал, и занимались дополнительно. В классе было много человек, но никто не чувствовал себя обездоленным. Только благодаря их стараниям и любви, знаниям по истории и литературе мы не выросли «Иванами, не помнящими родства», все ребята из нашего класса стали хорошими людьми. Сейчас ведь многие даже не знают Жукова и других великих полководцев, не могут отличить Великую Отечественную войну от Второй мировой, от этого становится не по себе.
Сегодня мы с женой вспоминали её отца, который всю войну прошел. Я подумал о том, что родился бы я на одно поколение раньше, тоже воевал бы, был бы ранен, а может и убит где-нибудь в Польше. Целое поколение полегло за Отечество, сколько людей! Нужно помнить об этом.
ИВАН ИВАНОВИЧ КРАСКО.
Артист театра им.В.Ф.Комиссаржевской. Народный артист РФ

Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. С отличием окончил Высшее военно-морское училище, был командиром корабля Дунайской военной флотилии. Два года учился на филологическом факультете Ленинградского университета, затем – в Театральном институте. Работал в БДТ у Г.Товстоногова, затем, в 1965 году, перешел в Театр им.В.Ф.Комиссаржевской. Сыграл сотни ролей в театре и кино, его голос, звучащий на радио России, узнает каждый петербуржец. Народный артист России.
Меня воспитывала баба Поля – мама отца. Мама умерла от заражения крови, когда мне было всего 10 месяцев. Потом не стало отца, и нас троих взяла к себе баба Поля. Она была крестьянкой, но с каким-то дворянским нутром. Я жил у бабушки с 6 лет и мы вели натуральное хозяйство, работы было много. Картошку посадить-выкопать, воды из колодца наносить. А корову прокормить! Полный сарай сена на зиму запасти – это дело непростое. Серпом по охапочке нажнешь травы, принесешь домой и сушишь. Жизнь была трудная, зато приучала к ежедневному, постоянному труду. В этой неизбежности и воспитывается характер.
В 1941 году мне было уже 10 лет. Сначала ребятня отнеслась к происходящему по-детски легкомысленно: играли в войну, «били» фашистов. Только после первых похоронок мы стали понимать, что происходит что-то страшное. Да и деревня наша опустела: всех мужчин забрали в армию. Потом опустели и полки в магазинах, ввели карточки. Всю войну мы прожили в Вартемягах, там блокада переживалась легче, чем в городе – у нас была и картошка, и молоко. Бабушка торговала молоком на Бассейном рынке в Ленинграде, добиралась пешком или на попутках, тащила на себе по 30 литров молока. Обратно привозила хлеб, сахар, а иногда в доме даже появлялись какие-то сладости. Помню, один раз она принесла коробочку драже, на которой был нарисован мальчик с румяными щеками и огромными глазами. Когда я увидел эти разноцветные леденцы, наверное, глаза у меня были такие же.
Линия фронта была совсем неподалеку, и брат Василий ушел в сыновья полка. Вскоре пришел командир спросить разрешения у бабушки. Увидел, что у нас тепло и попросил пустить на несколько дней фронтового художника. Тот красиво рисовал: расчертил Сталина на открытке на клеточки и перерисовывал, пришел политрук, сравнил вождя на двух картинках и спрашивает, почему в газете тот худее. Так война же, — отвечает художник. Баба Поля ахнула: даже Сталину тяжело. А потом художника за это объявили врагом народа и расстреляли.
Школьниками мы пропалывали огороды – морковку, свеклу. Характер у меня уже тогда был еще тот: нужно было быстрее всех бегать, лучше всех играть в лапту, и работать тоже надо было лучше всех. Получил награду как передовик производства – банку желтой консервированной черешни. Принес домой, а баба Поля обомлела – она черешни никогда не ела. И я до этого ничего вкуснее не едал. Иногда приезжали отощавшие люди из города – просили милостыню, мы только тогда узнали такое страшное слово «дистрофик». К весне картошечка кончалась и у нас: собирали крапиву, лебеду. Была одна забота – выжить.
Приходишь в сельмаг, предъявляешь карточки на сахар, а продавщица говорит: «Ванюшка, милый, сахара-то нет, могу селедку дать». Блокадная селедка была не такой, как сейчас, — ржавая, сухая. Принес ее домой, вскипятили чай и пили вприкуску с рыбой. И я удивился, как это вкусно! Даже своеобразная сладость получалась. Баба Поля вообще никогда не унывала.
Но поздней осенью 43-го прилетел дятел и стал долбить в скворечник, я схватил рогатку и вдруг получаю по рукам от бабушки. Он нам беду принес, — говорит. Только весной пришла похоронка, что в ноябре в Сталинграде погиб мой брат Володька. Я в рев, а баба Поля сказала, что раньше надо было плакать, когда дятел прилетал. Помню, как-то иду из школы, а мимо едет полуторка с бойцами. Смеются: малец, а сестренка у тебя есть? Отвечаю, что только братья – один погиб, двое воюют, а я с бабой Полей живу. Тогда один мне дал тридцатку, а другие – буханку хлеба и банку консервов. Когда объявили о победе, на всю деревню играли марши, а мы только перебирали, кто жив остался. У всех было только ожидание: придут ли домой.
Мне тогда четырнадцать лет было. Когда Левитан по радио на сельмаге объявил: «Германия полностью капитулировала!», я думал, что мои родные братья, которые ушли на фронт, в тот же день вернутся домой. До чего был наивным! Старший-то брат, Володя, в Сталинграде погиб. Коля был разведчиком, а Васька сбежал в сыновья полка, дошел до Кёнигсберга. До войны мы с ним соперничали. Знаете, как в детстве бывает — «и брат мой, и враг мой». Но когда он убежал немцев бить, я его полюбил. Ждал треугольничков с фронта и сам письма писал.
А баба Поля, — вещая старуха, — говорила: «доведу тебя до конца войны, а там помру». Спрашиваю: «Откуда ты знаешь?» «Сон видела. Нашу Керину гору. Будто лезу на нее из последних сил, думаю, неужели не доберусь до вершины? Потом на самую верхушку села и проснулась». Так и вышло — 9 мая отпраздновали День Победы, а 20 мая ее не стало. Хорошо, что вскоре братья вернулись. Недолго мне пришлось одному быть. Потом с фронта вернулся мой дядя, Иван Иванович, усыновил меня, мол, так будет легче дальше жить. После семилетки забрал меня в Ленинград – поступать в военно-морское училище.
Этот день – 9 мая для меня и, думаю, для очень многих – святой день. Я помню 9 Мая 1945 – народ ликовал, рассвет был и в душах, и на лицах людей. Я братьев своих ждал средних – Васю и Николая. Один был призван в 1942 году, а второй стал сыном полка… Так что для меня это настолько кровное, родное и близкое – освобождение от этой страшной войны…
Обычно в этот день меня всегда приглашают на концерты, выступления, но в этом году у нас в театре спектакль «Утоли моя печали» — и я этому очень рад. В спектакле речь идет о неком дяде Курте, который тоже служил. Мой герой все шутит, что у него хорошая пенсия – не за Курскую ли получил? В конце спектакля мой герой Санин говорит своему внуку, который избегает встреч с этим дядей, потому что его больше к русскому деду тянет: «Сходи ты к этому дяде Курту – что сейчас виноватых искать…». Этот спектакль о доброте, о душе человеческой, о том, что все должны помнить.
Я за то, чтобы этот праздник Победы никогда не забывался. Не дай Бог, чтобы сегодня была война…
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА АБРОСИМОВА.
Актриса Театра им.В.Ф.Комиссаржевской. Народная артистка РФ:

У меня сохранилась фотография – отец держит меня за руку у Львиного каскада в Петергофе. Датирована она 22 июня 1941 года. Так для меня началась война.

Мы стали думать об эвакуации. Мама была пионервожатой в школе, нас с ней хотели отправить с эшелонами, как всех тогда отправляли. Папа, уроженец Тульской области, настаивал, что надо ехать в Тулу, но бабушка уверяла, что в Туле враги были, а до Вологды не добирались никогда. Позже мы узнали, что первый эшелон был разбомблен. Тогда бабушка сказала: «Только через мой труп вы поедете в следующем эшелоне». Так мы и остались в Ленинграде. Вот почему у меня нет блокадного удостоверения: в списках отметили, что мы уезжаем, а восстанавливать прописку не стали, не до этого уже было.
Поскольку у папы была специальность «мосты и тоннели», он сразу попал на Волховский фронт, строил Дорогу жизни. В феврале 1942 года, когда она начала функционировать, он нас с мамой вывез в Вологодскую область. Бабушка с дедушкой пережили одну блокадную зиму, работали в госпитале. Они не очень любили об этом вспоминать. В Ленинград мы вернулись в конце 1944 года, когда блокаду сняли. Помню, что День Победы я встречала в детском садике на Измайловском проспекте – нам тогда сшили новые переднички, розовые с белыми горохами.
В Вологодской области было спокойно. Мы жили в городе Шуйске, там две реки проходили – Сухона и Шуя. Мамочка очень хорошо пела и выступала в восстановительных госпиталях с концертами для раненных, часто брала меня с собой. Однажды она пересеклась там с Анной Радловой, которая тоже была эвакуирована в Вологду.
Помню, смешной был случай, когда мама поехала за продуктами через реку по льду. На середине реки лошади вдруг остановились. Она у меня была очень ласковая, нежная, уговаривала их: «Милые, хорошие, ну что вы, поехали, меня доченька дома ждёт», — они ни в какую. Тогда она вспомнила, как разговаривают с лошадьми конюхи, крикнула на них матом, и они поскакали.
Голода я не помню, хотя мне немного надо было — я была худая и на очень тонких ногах. Бабушка была хорошей хозяйкой, у неё были какие-то припасы, и папа военный – нам полагались пайки. Во всяком случае, я не помню уныния, только за папу мы очень беспокоились, конечно.
Когда вернулись в Ленинград, дом, что напротив нашего, был уже разрушен, погибли знакомые, убили любимого мною Жорика, соседа по коммунальной квартире. Это никак не укладывалось у меня в голове. У нас была огромная и дружная квартира. А Жорик был очень красивым, и все хотели, чтобы он был моим крёстным…
Когда мы репетировали «Новоселье в старом доме», Валера Суслов просил рассказывать все воспоминания наших родителей о годах войны. Самые подробные воспоминания были у Валентины Ильиничны Чемберг. Наш мастер Рубен Сергеевич Агамирзян родился в 1922 году, прошел всю войну. У него была установка – каждый студент должен пройти через спектакль о войне. И мы с ребятами прошли: «Двое в степи», «Звезда» Эммануила Казакевича, спектакль о Брестской крепости.
Я помню, что бабушка и мама, переживая лишения, старались сделать всё, чтобы я росла здоровой. Я ценю их заботу о том, чтобы у меня был кусок хлеба и козье молоко. Бабушка говорила, что голод – это самое страшное, что выпадает на долю человека.
Если бы не было войны, наверное, была бы другая жизнь — у государства и у меня, соответственно. Но война стала частью нашей биографии. Это общая беда, это есть и в моём сердце.
ТАМБОВЦЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 1940 г. рождения. Работала в театре в пожарной охране.

Когда началась война, я была очень маленькая. В конце 1941, когда я была в яслях, мама заболела, попала в больницу и из больницы она уже не вышла. Меня какое-то время там подержали. Есть какое-то далекое воспоминание: мы сидим в подвале, я очень быстро съела кусочек хлеба с яйцом и не знала, у кого еще отобрать…
Когда мне было четыре годика, я всё маму ждала и не понимала, что мамы нет. Я знала, что мама должна быть. Нас выводили гулять, а там детки с мамами были. Сначала я жила в детском приюте на Петроградской стороне. Когда тебя никто не забирает, то после пяти определяют уже в детский дом. Меня несколько раз перебрасывали в разные детские дома. Когда нас выводили гулять на Петроградской стороне, все уже видели, что идут детдомовские.
Когда война окончилась, мне было пять. А в мои шесть лет появилась её сестра, которая приехала со своими дочерями, потому что ей нужно было где-то жить…. Моя площадь сохранилась, а её была разбита, она была в эвакуации. Я помню, что как-то назвала ее «мама», а ей не понравилось. Я поняла, что это не мама, мамы не будет и у меня что-то закрылось внутри…
Еще до школы я попала в детский дом. А в школе мы учились все вместе – и детдомовские, и домашние. Школа на Выборгской стороне была. И детский дом наш сохранился. Домашние дети к нам относились хорошо. Нам казалось, что они живут лучше нас, а они жили хуже, особенно в плане питания. Мы не голодали, а они – многие – голодали.
У нас был специализированный детский дом, и нас должны были спрашивать, хотим ли мы окончить 10 классов. Но на деле никто не спрашивал. Некоторым дали окончить 10 классов, а мне – нет. Я пошла в училище металлистов, но металлистом (токарем, фрезеровщиком и т.д.) никогда не работала, и на заводах тоже не работала. У меня получилось так, что я уехала Красноярск, прожила там неполных два года и вернулась снова в Ленинград.
В театр я пришла работать уже на пенсии – в пожарную охрану. Мне нравилось работать в театре, но годы берут своё…
ТЕМНИКОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА (работала инспектором в билетном столе в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской, сейчас работает курьером билетного стола)

Мне рассказывали, что, когда началась война, я была в детском саду в Малой Вишере. Когда за мной приехала бабушка, нас погрузили на телегу – видимо, никакого транспорта уже не было. Лошадка везла всех ребятишек, а взрослые шли рядом. Бабушка набрала, идя рядом с телегой, букет земляничек, и отдала мне. Я сидела в этой телеге и любовалась этими красивыми-красивыми яркими земляничками.
Мои родные бабушка и дедушка жили в Гатчине. Когда началась война, Гатчину как-то стремительно захватили, и бабушка с дедушкой, не успев ничего взять, прибежали к маме с котомочками маленькими. У нас была девятиметровая комната, и мы стали жить в ней все вместе. Мама все время в госпитале была, она там медсестрой работала, а бабушка с дедушкой за мной смотрели. Из разговоров взрослых я слышала, что им не дали карточек продуктовых и мама их как-то кормила. Но они все равно умерли в блокаду. Дед всё отдавал бабке, сам ничего не ел и умер первым. Помню, мама попросила соседа гроб сколотить из досок, которые она притащила откуда-то. Этот гроб на санках мама куда-то отвезла. А когда бабушка умерла, я помню вот что: в тот день я была дома и играла возле мертвой бабушки, не подозревая, что она умерла. Я чего-то говорила, что-то рассказывала, вертелась около неё. Мама пришла с работы, охнула-ахнула, и я поняла, что бабушка уже мёртвая. Ее уже не в гробу хоронили – мама запеленала бабушку во что-то и опять куда-то отвезла. Тогда, как я слышала из разговоров взрослых, уже не хоронили, а «складывали».
Мы эвакуировались из Ленинграда после страшной зимы 1942 года. Детский сад, куда я ходила, должны были эвакуировать, но мама не захотела меня отпускать. Тогда ее обязали эвакуироваться со мной в ближайшее время. Садик находился на территории педагогического института им.Герцена, где устроили и госпиталь. В Новый год 1942 года нас, детей из детского садика, пригласили в какую-то палату, где мы читали стишки раненым.
Мы уехали в эвакуацию в Удмуртию, куда нас вызвала другая моя бабушка. Эвакуировались на барже — уже по воде была открыта трасса. Продуктов у мамы не было, и она купила (или где-то достала) селёдку и накормила ею меня, по-моему, даже без хлеба. И вот на этой барже меня вытошнило, потому что она качалась. И вся селедка снова ушла в воду….
Добирались очень долго, потом по железной дороге в вагончиках-теплушках. Вдруг объявили, что в нужном нам месте не останавливается поезд. Мама растерялась и стала выбрасывать вещи. Помню, что она выбросила два тюка с постельным бельём, а в одном из тюков была моя красивая «ходячая» кукла… Так и приехали ни с чем. Сначала — в город Глазов, а потом добирались до деревни, где бабушка жила. Мама там получила место счетовода – это было большой удачей. Ей платили мукой, и она обменивала ее у крестьян на картошку или еще на что-нибудь. Детишки местные все были голоднючие. Помню, как мы ходили в лес, собирали ягоды, грибы и пестики. Это вот только что из земли выбросился росточек – и мы собирали эти росточки, называя их пестиками. Из них мама пекла шанежки: делается кружочек тоненький из теста, потом защипывается, а сверху кладутся вот эти пестики. Лепёшечки с травой — так вкусно! Это впечатление вкуса у меня осталось от детства. Этот запах ржаного хлеба, который выпекали в деревне в печке, я помню до сих пор.
В школу я пошла в восемь лет, потому что мама не отдала меня в школу в деревне, сказав: «Приедешь в город, там и будешь учиться».
В Удмуртии мама родила второго ребенка. А папы я не знаю, и даже фотографии у меня нет. Мы вернулись из эвакуации в 1944, когда блокада была снята. Наша комната в коммунальной квартире уже была занята инвалидом войны, поэтому нам не разрешили туда въехать. Мама мыкалась с нами, двумя детьми, по общежитиям, работала на почте почтальоном.
Помню такой эпизод: мама сидит за столом и бабушке говорит: «Ты столько приготовила, где ты это достала? Как вкусно!» А та смотрит на неё и отвечает: «Да это кошка!» — Мама тут же схватилась за рот, выскочила из-за стола и куда-то побежала. Я поняла, что её вытошнило. Да, тогда всех кошек съели, к сожалению.
Когда объявили об окончании войны, был салют. Мы жили на улице Герцена, и я пошла его посмотреть на Дворцовую площадь, но меня чуть не затоптали. Я что-то давай орать, пищать, верещать, кто-то меня вытолкнул из толпы, и я побежала домой.
ВИКТОР НОВИКОВ, род. 23 марта 1943 г.
Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ


Сохраненные стихи отца – Абрама Новикова.
СЫНУ 11.04.45г.
Пусть поземка над степью кружится,
Но всю ночь проскочу до светла,
Чтоб в окно деревянной больницы
Постучать, нагибаясь с седла.
И по лицам бессонных сестер
Все прочесть, ничему не поверив,
За оградой, где ветер сапер
Снежный вал наметает у двери.
Я увидел короткое «сын»
На стекле нацарапано льдистом
И шаги по ступенькам косым
Мне как версты по тропам скалистым.
Город спит, задохнувшись в снегу,
Снег до горла, до крыши, до неба
Никогда еще марта разгул
Как в то утро неистовым не был.
И я вспомнил, как дым деревень
С тем же свистом несла непогода
В тот неласковый, ладожский день
Декабря сорок первого года.
Между тощих берез, в мелколесье
Через торф незамерзших болот
Лямок петли на плечи повесив
Как тянули мы пушки вперед.
Под колеса бросая шинели…
И вставала в разрывах вода
Ржавым смерчем в слепящей метели…
Как мне сына хотелось тогда!
Чтоб он знал как в ночи, в бездорожьи
Кони падали, люди прошли
И была всех сокровищ дороже
Горсть сожженной, отцовской земли.
Чтобы он не слыхал, черноглазый,
Черных воронов над головой,
Чтоб вовеки ни пули, ни газы
Детских снов не коснулись его!
И когда над землею поднимет
Флаги трав и деревьев весна,
Чтоб он помнил как матери имя
Всех погибших в тот день имена.
.. .Так я ждал его в дымных землянках
На разбитых раздольях ,полей
На забытых лесных полустанках
В злой бессоннице госпиталей
Чтобы мартовским утром припомнить
И метель за собою клубя
Встать у края натопленных комнат-
«здравствуй, сын, я дождался тебя.»
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕТ С НАМИ…..
Народная артистка РФ ГАЛИНА КОРОТКЕВИЧ

Из биографии:
Галина Петровна Короткевич родилась в Петрограде, в 1921 году. В школьные годы училась классическому танцу у знаменитого педагога Бориса Фенстера. Ее папа был талантливым скрипачом, мама – артисткой оперетты. Через год после поступления Галины в театральный институт началась война. Всю войну Короткевич выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной Армии на Волховском, Ленинградском фронтах, перед бойцами Ладожской военной флотилии, выезжала на самые трудные участки передовой, участвовала в концертах для воинских частей у Пулковских высот, под Синявино, на Ладоге по «Дороге Жизни». Окончила ЛГИТМиК в 1946 году. В 1962 году Галина Короткевич пришла работать в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
Галина Короткевич: Окончив школу в 1940 году, в которой я, кстати, училась вместе с Владиславом Стржельчиком, пришла поступать в Театральный институт. Попала к Сушкевичу. После окончания 1 курса началась война. Можно сказать, что моя юность не состоялась — я была девочкой, и сразу стала взрослой. В день объявления войны нас, студентов, должны были отправить в колхоз. Услышав сообщение, мама сказала: «Срочно поезжай в институт». По колхозам, естественно, не поехали. В институте меня направили в Комитет комсомола, где формировалась концертная бригада. Поскольку я всю юность занималась хореографией, меня пригласили в бригаду старшекурсников. Они играли отрывки из спектаклей, читали военные стихи из газет, которые только что выходили, а между их выступлениями я танцевала. Так началась моя работа в военной фронтовой бригаде. Именно в военной, потому что нас отправили с концертами на Ладогу, а когда мы вернулись в Ленинград, институт уже был эвакуирован, и нас под свое крыло взял Дом офицеров. Мы ездили по мобилизационным пунктам, играли драматические и комедийные отрывки, пели песни. Поначалу никто не думал, что война будет такой долгой… Некоторым было даже интересно — шрапнель, бомбы. И только потом поняли, какой это ад!
Мы выступали, как тогда говорилось, в «форме номер один»: мальчики — в костюмах, а девочки — только в платьях. В тот год, первый, самый страшный, когда началась блокада, город оказался в кольце, был чудовищный мороз — до 45 градусов. Помню, выйдешь на сцену, улыбнешься — а улыбка так и замерзнет на лице. Но удивительно, что за всю войну никто из молодежной бригады не заболел, а у певцов, исполнявших песни на таком морозе, почему-то не садились голоса. Никому в голову не приходило жалеть себя или считать героем. Просто надо было выступать, и всё! Работали на передовых, на самых ответственных участках — на Ленинградском и Волховском фронтах, на Дороге жизни. На Ладоге работали в основном ночью, когда стройбаты разравнивали проезды. Когда они уже буквально падали с ног, у одной машины раскрывались борта, а соседний грузовой автомобиль освещал нашу машину. Мы забирались по ящикам с боеприпасами на платформу грузовика и выступали, чтобы поддержать боевой дух солдат. Я танцевала не меньше 4 танцев в концерте. Чтобы отогреться, нужно было пойти в палатку и переодеться. Там лёд был застлан елочными ветками, стояла печурка… протрёшь спиртом руки, лицо — и опять на сцену. Молодость бесстрашна. Мы переходили по траншеям даже на передовые, чтобы для 2-3 человек сыграть концерт. Иногда было невозможно поднять в танце руку, потому что землянка была очень низкой. То, что было тогда обыденным, сегодня воспринимается невероятным: сегодня не понять, как можно было такое вынести.
По всему Ленинграду люди сажали грядки: около Казанского собора, в Александровском саду, — где много земли, а деревьев мало. Все было в грядках, и на каждой из них стояла дощечка с фамилией. Сажали не картошку, а шкурки картошки с отростками. Давали одну только грядку, но никто никогда не воровал, хотя все было открыто, сторожей не было. Говорят, что в горе Бог дает силы, а несчастье порой не разъединяет, не озлобляет людей, а наоборот — прививает какое-то душевное благородство…
Из всех наград мне всего дороже знак «Участнику Дороги жизни». Я преклоняюсь перед строителями, водителями, регулировщиками — всеми, кто был там. С этой наградой я не могу ничего сравнить.
Наш театр открылся в блокаду, в 1942 году под названием «Городской», но жители сразу окрестили его Блокадным: сюда приходили люди с фронта и уходили прямо на фронт. Многие из тех бойцов, возможно, и видели всего один спектакль за свою жизнь. Для них это было памятное и прекрасное событие: будь то «Русские люди» Симонова, «Нашествие» Леонова или «Фронт» Корнейчука. Актеры и зрители жили на карточки и постоянно чувствовали голод. Кто выжил — выжил чудом. Каждый год 27 января и 9 мая мы собираемся коллективом, приглашая всех сотрудников, переживших войну и блокаду. Есть такое поверье: как только люди забудут войну — она начнется снова. Надеюсь, этого не случится…
Т. Лестева. Интервью с Галиной Короткевич «Я протанцевала всю войну» // Аврора, №6, октябрь, 2011.
Блокада… Она провела всю блокаду вместе с концертной бригадой в Ленинграде. Говорит, что на всю жизнь запомнила суп, которым их угощали в частях: похлебка, сверху плавает кружочками жир, кожа от шпрот и несколько перловок, но все горячее. А главное, давали к ней большой кусок хлеба, а не ленинградские 125 граммов. Она показывает размер куска хлеба, и я вспоминаю те послевоенные большие буханки, которые выпекали в сельских хлебопекарнях. А к ним давали артистам еще кусочек шоколада. «Отщипнешь крошечный кусочек шоколада — ам! — и запиваешь его кипятком. А хлеб я старалась съесть не весь, оставляла кусочки для мамы. Мне везло на людей, много встречала в жизни добрых, настоящих. Я благодарна огромному количеству людей. А двух помню и буду помнить до конца жизни: Евгения Хучева и Сашу Назарова. Они спасли мою маму. Наша бригада стояла в Кобоне. Женя был шофером и возил в Ленинград бочки с топливом. А я за неделю скопила немного хлеба и кусочек шоколада, спросила его, не сможет ли он заехать к маме на Невский. Он взял эту посылку, но чуть ли не со слезами: «Сама ешь. Ты же должна всю жизнь танцевать». А когда заехал к нам, мама уже лежала, даже встать не могла. А он такой большой был, огромный. Схватил ее в охапку, посадил в пустую бочку и вывез из Ленинграда. Приехал в Кобону, а начальник части увидел ее и спрашивает, не работала ли она каскадной певицей в Музкомедии. Узнал! И принял ее в штаб части машинисткой. Мама умела печатать на машинке. Разве можно забыть этих людей?».
Судьба. Однажды им пришлось давать концерт на большом крыльце разбитого дома, к нему вели ступеньки, и они были с обеих сторон забиты досками. Концерт закончился, стали разбирать ступеньки. И вдруг кто-то из солдат заметил, что между досок мелькают огоньки. Отбили доски, а под крыльцом сидят два немца. Вышли с поднятыми руками: «Гитлер капут!». Весь концерт просмотрели. А ведь могли в любую минуту взорвать артистов. Но эти немцы были дезертирами. Их солдаты сразу увели.
В другой раз они выступали перед бойцами на реке Ижоре. На противоположном берегу реки — немцы. Ижора — неширокая речушка, так что немцы могли слышать наших артистов. Но командир рассчитывал на немецкую пунктуальность: они обедали 40 минут. И эти сорок минут шел концерт. Из тоненьких берез сделали настил, застелили плащ-палаткой, и на этой «сцене» Галина танцевала. Бойцы сидели на земле. Когда кончилось время обеда, немцы начали стрелять, ранили стоявшую поблизости лошадь.
Моя школьная подруга Леля Александрова шла домой с блокадным кусочком хлеба в руках. Не было сил идти. Села в сугроб и умерла, так и не прикоснувшись к спасительному куску хлеба. Когда это знаешь не понаслышке, начинаешь ценить жизнь, любить людей и стараешься им делать только хорошее. Мы танцевали перед строителями Дороги жизни. Эти люди, сколько их погибло, кто знает, жертвовали собой, спасая ленинградцев. Днем фашисты бомбили дорогу, ночью они выходили на лед и строили ее заново. Мы выступали перед стройбатом ночами. 41 год, мороз до 45 градусов. На грузовой машине откидывали борта, фарами второй машины освещали «сцену», и там мы давали концерт. Командир просил: «Ребята, только повеселее». Я танцевала по 3 — 4 танца.
В день Победы люди, обнимались, радовались, а я стояла и плакала. Из моего класса в живых осталось два человека: многие погибли в первые дни войны, уйдя в народное ополчение. А сколько человек умерло от голода! Я знаю, что такое 125 граммов хлеба и ничего больше! Однажды иду по Невскому домой. Высокий, красивый мужчина лет сорока сидит на ступеньках парадной с замерзшей банкой золотистого цвета. Из этой двухсотграммовой банки с американской тушенкой он выковыривает и ест кусочки замерзшего мяса. Ест прямо на морозе. «Что выделаете! — я подошла к нему. — Не смейте есть мороженую тушенку. Из нее можно сварить горячий суп. Давайте я провожу вас домой». — «Не надо, девочка. Я хочу есть. Не волнуйся за меня. Я все равно умру». Я было направилась к своему дому, но тут мужчина упал. Когда я подошла к нему, он был уже мертв. Вот, что такое блокада! Впрочем, в день Победы я плакала не одна, многие плакали. Столько всего пережито!
С 1962 года Галина Петровна переходит в театр им. В.Ф. Комиссаржевской, где служит по сегодняшний день. И опять-таки судьба, или случай. Актриса Эмма Попова, игравшая в спектакле Мара Сулимова «Дети солнца» по пьесе М. Горького, ушла в декрет, и тогда режиссер пригласил Галину Петровну в свой театр: эту роль она играла на выпускном спектакле в Театральном институте, так что «вводить» новую исполнительницу в спектакль было легко.
ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАМЕНЕЦКИЙ.
Народный артист России
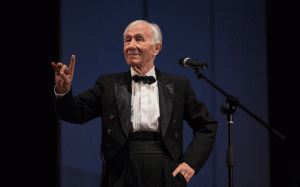
Я начну с тривиальности, с клише – да, я действительно дитя войны. Но вот о чём я думаю: люди моего возраста, вспоминая о войне, часто рассказывают одни и те же эпизоды. – «Представляете, мы стоим в поле, над нами летит немецкий лётчик, и мы видим, как он смеётся», например. Вот какая штука – я это слышу, и мне кажется, что я был там, рядом с ними. Я ведь отчётливо помню – в какой-то деревне над нами пролетел немецкий лётчик, я поднял голову и увидел улыбающуюся рожу. Другие рассказывают о пленных фашистах, и тоже всё сходится – мы с ребятами иногда бегали на железнодорожную станцию посмотреть на пленных немцев, которых везли в товарных вагонах. Увы, сейчас мне немного стыдно – мы не бросали им хлеб, а бросали то, что под руку попадётся – камни, снежки. Так мы тогда видели торжество победителя.
Я приближался к своему шестилетию, когда началась война. Мы жили в небольшом городке на Брянщине, в деревянном доме. Сижу я с удочкой на берегу пруда, пытаюсь поймать карасика, и в этот момент я впервые услышал психологически убивающий свист бомбы. Я тут же срываюсь, прибегаю домой и слышу из радиотарелки: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!» Помню, что я залез под стол, хотя во дворе уже было выкопано бомбоубежище. Ночью бабушка отнесла меня туда, и кроме нас там ещё кто-то был. Сейчас я не знаю, сколько здесь фантазии, а сколько истинной памяти, но я отчётливо всё помню. Это случилось накануне эвакуации и стало для меня началом войны. И война была со мной до самого своего конца.
На исходе этой ночи мы погрузились в телегу. Поскольку мама моя была депутатом горсовета, ей дали лошадь, чтобы мы скорее уехали. Это было летом, по-моему, в августе. Для меня слово «эвакуация» означает болезненную перемену жизни, а слово «беженцы» – что-то жалкое. Взрослые шли пешком, а я прекрасно помню, как сидел на передке телеги и видел перед собой без конца размахивающий хвост (иногда он меня задевал) и лошадиные ноги, которые при каждом шаге демонстрировали широкие мышцы. Помню аромат сушеной травы и незабываемый запах парного молока. Вместе с нами, несчастными беженцами, шли стада несчастных коров с переполненными выменами — некому было за ними следить, некому доить. Молоко стекало по их ногам и ручейками разливалось по земле, как молочные реки из сказок. Не дай Бог ещё раз их увидеть… Но запах этот я запомнил на всю жизнь, сейчас молоко так не пахнет.
Так мы ехали долго-долго, до начала осени. Иногда делали остановки, а случалось,что военные тормозили нас и говорили: «Туда нельзя, идёт бой, поворачивайте обратно». У меня сохранился нечёткий образ: опушка леса, ночь, бегающие прожектора, я сижу в той же телеге и думаю: «Сейчас меня убьют. Но когда убьют, я же не почувствую?» Вот такое ощущение войны. В Ельце путешествие на лошади кончилось, и мы пересели в поезд. Вот где начался кошмар, вот где ад – в переполненном вагоне товарняка, где пахло мочой и всех съедали вши. И так до начала зимы.
Нас высадили на небольшой станции Сура в Пензенской области. Через речку мы переезжали на санях по первому льду, подумали – вот сейчас провалимся, и всё на этом. Первое, что случилось в деревне, – мы похоронили бабушку. Это так соразмерно с войной.
Я не смогу забыть доброты простых людей. Меня посадили греть ноги около печки, и женщина внесла в комнату огромный чугун, из него шел пар. На большой деревянный стол она вывалила гору картошки. Никогда я не забуду запах рассыпчатой картошки в мундире! Это тоже война.
Отца трижды брали в армию, возвращали, и, в конце концов, перевели на лесоперевалочную базу, и я там жил в бараке. В Суре я поступил первый класс, начал писать стихи – про войну, про Сталина. Про партизан писал: «Когда заснули немцы беззаботно, народный мститель вышел на дозор». Мальчишкой я мечтал ощутить запах пороха, попартизанить «по-настоящему».
Школа располагалась в бывшей церкви. Атмосфера в ней была замечательная, и учителей я забыть не могу. Учитель литературы Евгений Григорьевич Белугин лётчиком был. Прежде чем сесть за учительский стол, он щёлкал протезом, чтоб тот согнулся, только тогда садился. Обожаемый был мною человек, умница, только пьяница. Раньше он читал лекции от горкома партии, а с войны вернулся с протезом и алкоголизм. Это тоже война.
На нашей станции часто появлялись новые люди. Забыть не могу двух друзей – один без рук, другой без ног, но они хотели выпивать: тот, что без рук ходил за водкой, а тот, что с руками – её наливал. Это тоже война.
Я видел каторжный труд женщин на лесоперевалочных базах. В девять лет я заработал свои первые деньги: мне дали ведро с мазутом и тряпку на палке, я чистил эскалатор, который поднимал брёвна из реки. Поначалу весь был в мазуте. Потом подрос, и меня «повысили», стал вести учёт – сколько кубометров леса было вытащено из реки. Мужик мне кричал: «30 сантиметров», я и писал на бревне «30». Это тоже война.
Перед подъёмом на эскалаторе, чтоб не расплывался, лес собирали в большой кошель – заводь, составленную из двух брёвен. У нас, пацанов, было такое развлечение: мы выбирали шпалу, ложились на неё и плыли вниз по течению. Но железнодорожный мост через реку охранялся специальным гарнизоном, под него плыть нельзя – убьют. Не доплывая метров тридцать, мы поворачивали к берегу. Это тоже война.
Река Сура – это приток Волги, спасительница душевная и физическая. Как только сходил лёд, и пойма чуть подсыхала, там появлялись дикий лук, чеснок, борщёвка, щавель. Мы туда кое-как пробирались и ели траву. Я уж не говорю о том, что мы ловили рыбу, ныряли за ракушками и поджаривали их на костре без соли, её тогда не было. Ещё ели что-то картофельное, перемешанное с лебедой. Это тоже война.
Вот идёт женщина, опухшая от голода, ощущение, что ткнёшь её пальцем, и вода польётся. Это тоже война.
Помню, как в День Победы взрослые пошли на станцию пить пиво. Мне было десять лет, и тогда я впервые попробовал пиво вместе со всеми, а мама сшила для меня зелёный тканевый пиджачок. В Суре мы жили до 1949 года. Отца перевели в Пензу, и в восьмой класс я пошел уже в областном городе.
Лет десять назад я поехал на гастроли в Самару с БДТ. И вдруг мне приходит в голову: мы же Суру будем проезжать! Я стал смотреть в окно, давно я так не волновался. Доехали до Симбухово, маленькой станции, гляжу – будка, как стояла, так и стоит! Едем дальше — где я жил, теперь высокий берег, а река закрыта купами деревьев. Там, где раньше была станция, стоит новый вокзал – будто нарисованный, игрушечный, маленький, как эта комната.
Не знаю от чего, но именно в Суре я стал мечтать об актёрстве. Что такое театр я не знал, не видел ничего, кроме заезжих эстрадных бригад. Театр, о котором тогда мечтал, я впервые увидел в Пензе. Сейчас я понимаю, что это старое здание было больше похоже на огромную баню, но тогда я ходил вокруг него и ждал – вдруг сейчас выйдет какой-нибудь артист, я увижу живого артиста! Когда начался театр, для меня кончилась война.
КУРМАШ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, работала в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской костюмером, начальником костюмерного цеха.

Я помню, как стояла в кроватке, смотрела на стол, собирала все крошечки, что были на столе и в рот тащила. Вот моё первое «военное» воспоминание. Дети в войну быстро взрослеют.
До войны мы жили в доме 182 на Невском проспекте. Потом кто-то сверху буржуйку затопил, уснул и пожар получился. Тогда в городе ещё была вода. Заливали с четвёртого или пятого этажа, и залили всю нашу квартиру. Маме управдом предложил выбрать комнату в доме на Шлиссельбургском проспекте. Хотя дом был пустой, все уже были эвакуированы, она выбрала самую маленькую комнату, чтобы ее можно было протопить. Мы жили втроем: бабушка почти не ходящая, я и мама. Потом воду отключили. Но Нева протекает рядом, и вот мама меня закутает, на санки посадит, бидон между ног поставит – и мы едем за водой. Туда все люди ходили. В этом месте, где мы воду набирали, просто ледяная гора была: спуститься-то можно, а вот вверх подниматься очень сложно. И вот однажды перевернулись санки, вода из бидона вылилась, и тут я в первый раз увидела, как мама заплакала.
В эвакуацию нам не к кому ехать было, и мама решила: «умирать, так в своей постели». Мы остались в этой девятиметровой комнатке. Мама мне делала игрушки. Помню, прочитала она мне сказку Пушкина, и так мне там понравилась Чернявка и как она поступила, что мама мне сделала такую куклу. С этой куклой я и играла. Книг, конечно, у нас уже не было, все были сожжены в печке. Только помню, одна книжка осталась — «Красное и чёрное» Стендаля.
Были бомбежки и обстрелы. Мама специально и взяла эту маленькую комнату в углу, чтобы меньше слышно было, когда бомбят. Когда по радио объявляли о начале обстрела, маятник туда-сюда мотался. Я была маленькая и говорила: «немец пук-пук». Не «пух-пух», а «пук-пук». Мама заворачивала меня и убегала в туалет, чтобы там не слышать грома снарядов.
А еще помню зеленые цепочки. Это стреляли ракетами наши русские вредители. Мы жили на втором этаже четырёхэтажного дома, и было видно, как с угла запускали эти ракеты зелёные, чтобы бомбить. Тут же и Лавра была рядом. Мама моя пошла, заявила, что видела, откуда пускали цепочки. А дом наш почти весь пустой был, может, в одной-двух квартирах и остался кто-то. И вот к нам в дом явился наряд и выловил этих диверсантов. Мама мне показывала на эти цепочки зеленые, а я, маленькая, радовалась, не понимала, что это страшно и стреляют предатели.
Как-то управдом, в подчинении которого был весь дом, маме сказал: «Переселяйся из девятиметровой комнаты, выбери какую-нибудь комнату себе побольше». Уже обстрелов не было. И она выбрала на втором этаже. А когда приехали соседи, которые были эвакуированы, они нас оттуда выгоняли, скандалили. Дом, как ни странно, сохранился, и мы еще долго-долго жили в этом доме.
Помню, как прибегал отец. Он был на Пулковских высотах старшиной медицинской службы и приносил нам часть своего пайка, сушил для нас хлеб. Папа был очень ласковый, маму очень любил. Один раз приходит с пустыми руками и плачет. Говорит, что копил — копил неделю, а у него всё украли из-под матраца. А еще помню, как пришли мы с ним на барахолку, чтобы мне какие-то валеночки купить. И вот он меня посадил на плечи и кричал: «Куплю валенки!». Народу было много, продавали всё, кто что мог, что сохранил.
Вся семья выжила, благодаря чуду. Бабушку нашу обычно отправляли на всё лето в деревню. У неё была корзина плетёная, и вот туда целый год складывали продукты: песок, муку, крупы. А в тот момент бабушку еще не успели отправить, и корзинка с нами осталась. Это оказалось большим подспорьем, иначе мы бы не выжили. Еще мама моя сдавала кровь. На пузырьке или на колбе писались фамилия, пожелания тому, к кому это попадет. Я до сих пор помню письмо одного офицера, которого спасла эта мамина колба. Он предлагал маме руку и сердце. Мама за войну три литра крови сдала, и после войны была донором. А по профессии мама была модисткой, хорошо шила и шляпы делала. В начале войны она от Площади Александра Невского на Васильевский остров ходила с чемоданчиком – оттуда брала заказы, а потом возвращала то, что сшила дома. Она не могла надолго от меня маленькой и от бабушки обездвиженной уйти. Транспорт уже не ходил никакой, и вот такую дорогу она проделывала пешком. На Васильевский остров она ходила через Неву. И вот однажды, как она рассказывала, захотела мама перед мостом отдохнуть, присесть. К ней подошел милиционер, ласково к ней обратился и сказал: «Не садитесь. Если вы присядете, то уже не встанете». И пришлось ей потихонечку двигаться дальше….
Потом мама работала в нашем театре костюмером и была старшей на мужской половине. А мой дядя, Сергей Леонтьевич Поначевный, был артистом и работал практически с самого основания нашего театра – «Блокадного», или Городского, как он тогда назывался. Это двоюродный мамин брат. Вот так и я попала в театр случайно на много-много лет…
Очень хорошо помню салют: не победный, а посвященный снятию блокады. Это, конечно, детское впечатление, но такого яркого салюта я в жизни больше не видела. Было так красиво, и видно все гаубицы, пушки, которые стояли в городе…
ВЛАДЛЕН ШМЕРКОВИЧ НЕПЛОХ
Преподавал в Школе искусств им.Ростроповича с 1988 г. по классу бас-гитары. Имеет учеников, ставших профессиональными музыкантами. В Театре им.В.Ф.Комиссаржевской служил заведующим музыкальной частью. Ему принадлежит музыкальное оформление ряда спектаклей театра.

Когда началась война, мы жили в Колпино, а мои родители работали на Ижорском заводе. Вскоре стали эвакуировать оборудование с Ижорского завода на Урал, а нас не эвакуировали. В последний момент, за неделю до закрытия блокады, последний эшелон с оборудованием уходил на Урал, и какой-то начальник решил прикрепить дополнительный вагон из электрички довоенной. Нам сказали, что могут взять в этот вагон только матерей с детьми до десяти лет. Мы с моей мамой в эту электричку попали, но из вещей ничего нельзя было брать. Я рано познал Пушкина, и в том вагоне всем читал: «пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». Котомочка была маленькая, и взял я с собой русские народные сказки, огромный том, как мне казалось. А башмаки не поместились. И вот этот том русских народных сказок, где на обложке были Медведь и Маша, сидящая с пирожками в мешке, поехал с нами. Мы приехали в Свердловскую область в поселок Мишкино. Никаких родственников у нас там не было – только советский народ.
Вероятно, была какая-то разнарядка на беженцев, и меня с мамой взяла какая-то семья начальника. Нас поместили на одну их кухонь в их доме (там было две кухни). Мама нашла работу, потому что туда перевели эвакогоспиталь. Год я должен был ходить в детский сад, но меня оттуда выгнали, потому что я приставал к девочкам. А когда мне исполнилось 7 лет, я пошел в первый класс, принес с собой ту самую книгу из котомки и всем читал Пушкина. Тогда вызвали маму и сказали: «Заберите его отсюда, потому что ему в первом классе делать нечего». Она попросила взять меня во второй класс, но ей ответили: «Как мы можем взять его во второй, ели он не был в первом?». Так первый класс я опять отсидел дома. Потом мама нашла свою маму через Красный крест. Им удалось убежать из Белоруссии, где перебили всех евреев. Так к нам приехали бабушка, дед и брат. Теперь мы жили в этой же кухне все вместе. На комбинате сушили картошку, а нам доставались очистки картофельные — это было невкусно.
Мама с братом уехали в 1944, когда блокаду сняли, а я остался с бабушкой и с дедом. Мы вернулись в Ленинград в августе 1945. Нам дали 12-метровую комнату в разбомбленном доме на Васильевском острове, на улице Опочинина. Еще приехал дядя с войны, и нас в этой комнате оказалось 7 человек и кошка. Это редкий случай, когда после блокады осталась кошка. Я спал на столе, а когда просыпался, рядом со мной лежала крыса. Это кошка мне приносила как бы в благодарность за спасение.
Время было тяжелое, но все равно помнится всё хорошее. Злое я так не помню. Голод не помню. Я помню, что куда-то уходил, где ручеёк журчал, сидел один и запомнил запах глины, солнце, облака и стрекоз – они были маленькие такие разноцветные. Они замирали над водой и над какими-то цветками, и меня это поражало.
После войны я занялся поиском занятий. Недалеко от Опочинина был Дворец культуры им. Кирова, где был детский сектор и масса кружков всяких. Сначала я попал туда, где кроликов выращивали – в зоокружок. Потом в хор попал, потом игровая комната была и хоккей в игровой комнате настольный. Но взрослые дети не давали мне играть в хоккей, пришлось сесть за шахматы. И так до хоккея дело не дошло, но в шахматы я стал прилично играть. А потом я услышал звуки оркестра – это был русский народный оркестр — и пришел туда. Это определило мою жизнь.
Папа мой был, можно сказать, евреем-воином. Его Шмерка звали, а я, получается, Шмеркович. Он после фронта постепенно слеп, и нам с братом стоило больших усилий сдержаться, когда мы видели, когда он смотрел на свет. Он сидел и смотрел на свет. Потом мне это всё надоело — я бросил школу и пошел работать грузчиком в «Ленпогруз», когда мне не было и пятнадцати. Днём я работал грузчиком, а вечерами играл. Играл в ансамбле мандолинистов, в джазовых ансамблях, скрываясь от комсомольских патрулей. Затем были музыкальное училище и Консерватория, оркестры Блехмана и Вайнштейна – но все это потом….