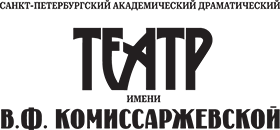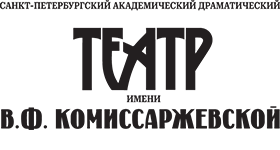Удивительный, завораживающий и, одновременно страшный спектакль о том, где есть черта и как легко ее переступить. О том, что близкие люди могут быть близки друг другу не только в любви, но и в ненависти. О том, как человек может превратиться в озлобленное животное, и как трудно потом вновь обнаружить в себе человеческое… О том, как сложно учиться любить себя, других, бога. О том, что делает нас людьми. Этот спектакль — не для слабонервных. Он очень жесток и очень нелегок. Именно поэтому так непросто складывалась его жизнь, и так немного зрителей он собирал. К сожалению, 17 мая это будет последний «Сиротливый Запад», поэтому не упустите возможность и посмотрите или пересмотрите его.
Е.Герусова. Реквием инфантилизма/ Газета «Коммерсантъ-СПБ» № 72 (4372) от 23.04.2010
На спектакль зрителей пускают в зал под вой сирен. В клубах театрального тумана, библейским речитативом, в микрофон пастор Уэлш начинает рассказ о Коннорах как притчу из Книги бытия. «Сиротливый запад» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской по форме оказывается чем-то вроде абсурдной, немного фарсовой комедии, соединенный с мрачной, мистериальной и очень красивой балладой. Разного рода визуализаций в спектакле много — с помощью этих образов и объектов режиссеру Крамеру и художнику Исаеву самыми подручными средствами удается нарастить таинственный, мистериальный пласт «Сиротливого Запада».
Анастасия Ким. Сиротливый Кризис веры/ РБК daily, 26 апреля 2010.№43
Режиссер Виктор Крамер на сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской поставил в собственном переводе одну из лучших пьес современного ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Сиротливый Запад». (…) В сюжете «Сиротливого Запада» угадывается библейская история Каина и Авеля. Только ТУТ брат убивает не брата, а отца. А когда после прочтения письма утопившегося священника братья медленно начинают своеобразный конструктивный диалог, построенный на признаниях, становится понятно: зритель буквально выстрадал за них пришедшее озарение. Героям же озарение явилось после «спотыка» о веру: священник «заложил» свою душу Богу, надеясь на примирение братьев, ведь «мир во всем мире никогда не наступит, пока брат не сможет ужиться с братом».
Евгений Соколинский. Пролетая мимо царствия небесного / Час Пик, №16 (624), 28 апреля-4 мая 2010 г.
Если вы видели хоть один спектакль по пьесе Мартина МакДонаха, то представляете себе традиционную для ирландца-гротескера атмосферу ироничного кошмара. Режиссер Виктор Крамер поднимает почти бомжатский быт братьев Коннор до уровня библейских обобщений. Если братья с их вечным противостоянием наконец помирятся, пастор Уэлш отправится в царствие небесное, а если нет… Так же Коулмен (Александр Баргман) и Вален (Сергей Бызгу) шастают в своих мыслях и поступках между раем и адом, склоняясь к последнему. Оба они — Каины, которые чудом удерживаются от братоубийства.
Но Крамер «сооружает» и свои, постановочные, «качели». Поток непристойностей и невнятность для жителей Линэна моральных норм режиссер уравновешивает церковными хоралами, фрагментами из реквиемов (…)
Театр никого не осуждает. Он только ставит зеркало перед партером и объясняет: вы такие же, как братья Коннор, пусть и не палите из ружья в собственных родителей. Люди, застывшие в неопределенности. Вам не попасть в царствие небесное. Вы мимо него просвистите. Однако, не ведающих добра и зла, вас, наверно, пустят в чистилище. Там тоже сносно. «Сиротливый Запад» — весьма любопытная премьера. Правда, не совсем в духе репертуарных традиций театра при Пассаже.
Екатерина Павлюченко. Нищие духом не блаженны/СПб ведомости, 29 апреля 2010. №076
Виктор Крамер поставил спектакль, смотреть который очень больно. Постоянный зритель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской не привык к такому обращению. Но отныне помимо репертуара развлекательного в его афише будет постановка, похожая на горькое лекарство, принять и перетерпеть которое современному человеку просто необходимо.
О зверстве, совершенном в разрозненном на две половины доме, напоминает лишь меловой силуэт трупа, нарисованный на коробе-комнате Коулмена, да два кровавых пятна на его же стенах (…). Режиссер предельно откровенен и прямолинеен. Эти люди сами не выздоровеют. Они могут спастись только благодаря тому, кто придет и дарует им вечную жизнь, своею смертью их смерть поправ. Братьям Коннорам повезло. На их пути встретился отец Уэлш.
Екатерина Омецинская. Комиссаржевка уходит в отрыв /Шанс, 10 мая 2010
МакДонах в традиционные представления никак не вписывается. Этот ирландец первым открыто вывел на подмостки тех, кого в старом анекдоте называли «семейка уродов» — не тронутые условностями цивилизации типы. В их устах ругательства — исключительно деталь характера. На первый взгляд они явные вырожденцы и дегенераты, но на деле малая толика этого убожества есть в каждом живущем на Земле. Жить, рефлексируя, мыслить только одной извилиной и не «напрягать» себя работой хочет каждый — признаются не все. Ведь быть Человеком – означает ежедневно совершать усилие над собой, работать, не покладая рук. Те, кто и знать ничего не хочет про возможность такого растительного существования, уходят из зала театра им. В. Ф. Комиссаржевской уже в течение первого действия.
Думается, что все, кому довелось играть МакДонаха, счастливые люди: им (равно как и зрителям, ежели они поймут) подарена судьбой короткая возможность примитивного существования в этом мире, данная для того, чтобы осознать – так жить нельзя (в смысле «невозможно»).
Надежда Таршис/ Блог Петербургского театрального журнала:
Крамер увидел то, что есть, но прячется в пьесе, в театре и вокруг; увидел мистерию за жалкой клоунадой. Человек – исчезающая величина. Сильный актерский тандем выносит на своих плечах основной ужас буксующего, богооставленного существования. Смешно и жутко. Промельк слабой надежды, завещанный отцом Уэлшем, оставляет сильное впечатление. Четверо монашек, мизансценической формулой проходящие через спектакль, – ритуальное лоно этой истории. Они вписаны в игру, они ее начинают и заканчивают, но именно с ними действие обретает мистериальный рисунок и масштаб. Вспомнишь «Сестру Беатрису» и «Чудо святого Антония» и не ошибешься. Виктор Крамер здесь узнаваемый и новый. Это проповедь: о последнем отчаянии проповедующего.
Елена Добрякова. Запад: сиротливый, жестокий и… трогательный / Невское время/Культура, 15 апреля 2010
Постановщики готовы к тому, что часть зрителей может возмутится маргинальностью и чернухой, обилием ругани (правда, мата не будет) и с негодованием покинет спектакль. И все же, уверен режиссер, это «история про нас, не важно — в деревне или в мегаполисе мы живем. У Макдонаха это игра в городок, в котором существуют только четыре человека. Это его образ мира. Мир Сиротливого Запада, который живет без Бога, без веры, без смысла, без отца. Мир, в котором Христос стал такой же игрушкой из магазина, как человек-паук».
Виктор Крамер: Я – часть этого мира… /Зрительный ряд, апрель 2010
МакДонах нашел довольно точную формулу той реальности, в которой мы живем. Он, при всей своей любви к игре «в Тарантино», раскрывает подлинные страсти той человеческой среды, которая, к сожалению, как грибок, с ужасающей быстротой развивается в нашей жизни. Он вывел грустную формулу несоответствия страстей предмету этих страстей: люди делят не королевства, а пачку чипсов. Но масштабы переживания равны шекспировским! Спектакль делали вот про это: при всей ненависти братьев друг к другу герой пьесы отец Уэлш достаточно точно определил, что внутри зарыта любовь — но это специфическая любовь, странная и непростая, необходимость alter ego рядом, любовь и ненависть одновременно.
Виктор Крамер: Там, на дне бачка есть любовь…/ Инфоскоп, апрель 2010
Наивно предполагать, что даже самоубийство этого священника, отца Уэлша, способно изменить мир. Но, может быть, ради той секунды, когда братья попробовали друг перед другом покаяться в содеянных подлостях, — стоило все это делать? Конечно, большой вопрос — надо ли свою жизнь тратить ради вот этой «помойки», но с другой стороны, эта «помойка» и есть мир или его значительная часть! Отец Уэлш хочет себя и нас убедить, что там, на дне этого мусорного бочка лежит любовь. Там она точно есть! В этой пьесе, в этом спектакле есть очень мощное светлое зерно. В этом спектакле как бы создается новое писание, новая религия, новое начало. Оно создается из тлена и праха. Оно создается, пусть с наивной, но надеждой, что что-то может измениться в нас самих. Поэтому в спектакле есть попытки начала новой веры. И вера в данном случае — не есть вопрос о наличии Бога. Бог един, просто каждый в силу своей культуры и национальных особенностей пытается его по-своему осознать и выразить, воплотить. Эти люди и этот священник ищут новое воплощение веры, которая сможет что-то сделать с этим оставленным Богом миром.