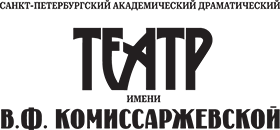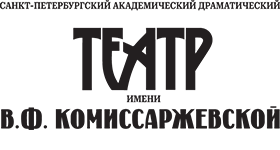23 февраля (10 февраля по старому стилю) 1910 года, 105 лет назад, в Ташкенте нелепо и случайно ушла из жизни великая русская актриса Вера Комиссаржевская. Театр на Итальянской, 19 носит ее имя 55 лет (с 18 октября 1959 г.). Покинув казенную, императорскую сцену Александринского театра, 15 сентября 1904 года Вера Федоровна открыла собственный Драматический театр спектаклем «Уриэль Акоста» К. Гуцкова, а уже через два дня состоялась премьера «Кукольного дома» Г. Ибсена, где в главной роли выступила сама Комиссаржевская. Опаленная бурной эпохой, великая актриса строила «театр свободного актера, театр духа», который современники называли питерским МХТ. В состав дирекции вошли режиссеры школы МХТ. Для самой Комиссаржевской первые два сезона существования ее театра были временем редкой цельности устремлений и их воплощения: здесь она сыграла современных героинь из пьес Г. Ибсена, М. Горького, «знаньевцев» Е. Чирикова и С. Найденова, Г. Гауптмана, А. Чехова.
В буклете, подготовленном театром о великой актрисе, есть статья Марины Заболотней, отражающая не факты ее жизни, не хронологию событий, а дух мятущейся, ошибающейся и великой
«идеалистки, «особенной среди людей»».
«У меня больная душа, и я жгу жизнь с двух концов, чтобы не чувствовать вечной боли».
«… О, если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий. Тебя засыплют цветами, подарками. … за одну слезу твою заплачет тысяча глаз… Ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой, и сойдешь со сцены королевой, так и останешься». Будто не пьесу сочинял Островский, а предсказывал судьбу шестилетней дочери известного оперного певца Федора Петровича Комиссаржевского. Только героиня пьесы «Лес» на сцену не поступила, а Верочка против воли отца пошла в актрисы.
Перед ее дебютом – было это в Новочеркасске, — в антрепризе Н. Синельникова острили, что если у нее нет большого имени, то есть длинная фамилия. Тогда фамилия писалась с двумя «м». Как показала ее скоротечная жизнь, история украла не только букву…
За плечами были частные уроки у корифея Императорского Александринского театра Давыдова, не обещавшего девушке блеска в карьере. Да уроки пения у отца. Но божественная искра уже прожгла воздух сцены. Она стала звездой провинции, а через какое-то время разбудила сонный Петербург. «Солнце, яркое, весеннее солнце, и жгучая, глубоко-человеческая скорбь – эти две стихии соединились в душе Комиссаржевской, и неотразимо влекли к ней завороженного зрителя»
Отчаянная, смелая, безоглядная, вечно рефлексирующая, впечатлительная натура. Казалось бы, чего еще можно желать, играя на сцене императорского Александринского театра? В роковой премьере «Чайки» она сыграла Нину Заречную, изрядно встряхнув непривычной простотой, искренней нервностью.
Кажется, она и по жизни играла Нину Заречную, как Мейерхольд — Костю Треплева. Но, пригласив модного символиста-режиссера, искателя новых форм в свой театр, она быстро в нем разочаровалась, да и зрителя не радовало новое амплуа своей богини. Нина Заречная не приняла театр Треплева. Комиссаржевская – Мейерхольда. Скандальный разрыв был неизбежностью.
«Очень трудно мне будет для своего будущего театра найти режиссера, который давал бы артистам свободно разобраться в пьесе и ролях, а затем умело синтезировал бы в художественное целое их откровения и анализ. У нас режиссеры зачастую не дают проявляться индивидуальности актера, навязывая свое толкование. Вот и у Станиславского – деспотизм. Я высоко ставлю его подвиг в театре и чуть-чуть не согласилась служить у него, но потом, подумав, решила, что мы оба не уступим друг другу, и ничего хорошего не выйдет».
Пережив личные катастрофы, она взошла на сцену постаревшим ребенком. И взломала код доступа к вечности.
Невозможно представить, как примадонны прошлого играли каждую неделю премьеру. В сезон Комиссаржевская играла по 20 пьес. Она была гениальным любителем, отдаваясь порыву без остатка, порой экстатически, не чувствуя себя после спектакля, часто представая перед зрителем хрупким ребенком. И тогда хотелось ее пожалеть. И обожание переходило в желание присвоить себе это существо с острым личиком и жгучим взглядом синих грустных глаз. «Вы – наша!» — кричали ей с галерок студенты. И она соглашалась. Да, она была идолом, но идолом родным, «своим». Потому что хваталась за многое разом, меняла мнения, увлечения, но отдавалась каждый раз всецело тому, во что влюблялась. Она помнила ученика своего отца – К. Станиславского, из детства — Мусоргского, аккомпанировавшего на их домашних спектаклях. Она искала последнюю правду. В смятенье чувств, в постоянном беспокойстве скиталась по свету, – обожаемая и одинокая — чтобы нелепо скончаться в Ташкенте от оспы. Жизнь груба.
В ней не было отточенности школы. Импрессионизм, асимметрия времени, асимметрия жизни. Одни углы. Пришла на сцену поздно, в 29 лет. И принесла свою музыку. Ее тревожные, царапающие ноты голоса передавали надбытность. Она сама была символом времени, неся небывалую импульсивную простоту и естественность, порывистость, тревогу в предчувствии грядущих катастроф. Она была Незнакомкой, транслирующей со сцены зрителю несчастливость своих героинь, вызывая искреннюю жалость до щемящего обожания. Но в беззащитности и обреченности читалось стремление выстоять. Ее любили и ругали за крайний субъективизм на сцене, за ту трещинку, от которой шла нежная вибрация. Героическое было в ее многочисленных персонажах современниц, выходивших на сцену в знакомых платьях. У Ницше было «Рождение трагедии из духа музыки», она же воздвигала храм музыки на месте драмы, и это тоже было признаком своего времени. «Героическое» звенело в ней весенней нотой и рвалось наружу. Ее угловатое суетливое искусство имело гипнотическое воздействие. Она хотела и делала все сама (в том числе, и чудовищные ошибки). Как дети в песочнице, она осваивала новые границы мира, покуда эти границы не сомкнулись за горизонтом, не ушли в бесконечность Вселенной. Неутолимость мучившей ее жажды жизни тревожила и заражала. Впрочем, как беспечность до безрассудства, как одержимость. Оставаясь бездомной бесприютной странницей, она часто давала концерты в помощь нуждающимся. Заблудившаяся и заблуждавшаяся.
Где-то рядом ходили по свету циники, время которых уже наступало, а такие как Комиссаржевская и Дузе, сходили со сцены жизни, оставляя за собой высокие идеалы, до которых уже было не дотянуться. Мировая женская душа, которую мечтала выразить в своем творчестве она, так и осталась неразгаданной.
Зачем нам это имя сегодня — в век тотальной лжи, культа бесталанности, поверхностности и спешки? Кто сегодня поймет ее мятежность, кто выразит ее совестливость, самоедство, рефлексию нежной души?…
…Она любила свой день ангела – по старому стилю – 17 сентября. Под него подгоняла самые важные события, даже если событие должно было произойти в другом месяце. Верой жила, надежду вселяла в зрителя, любовью опьяняла.
Ровно сто десять лет отделяют нас от того момента, когда Комиссаржевская свершила дерзкий поступок, открыв на сцене Пассажа свой театр. Придите и прислушайтесь, а вдруг и вас коснется священный трепет храма, о котором мечтала эта хрупкая девочка?