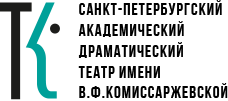ВСЛЕД ЗА КОНСТАНТИН ГАВРИЛЫЧЕМ…
«Прошлым летом в Чулимске». А. Вампилов.
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.
Режиссер Сергей Афанасьев, сценография Александра Орлова.
На исходе 2014-го Валентина впервые за долгие годы огорошила нас в финале. Непредсказуемо.
«Ты по-прежнему чинишь калитку?» — нередко говорим мы друг другу, опуская всяческую иронию, в момент, когда один из нас романтически бьется об очередной непробиваемый каркас железобетонных жизненных конструкций.
Все, кто привык опираться на плечо непоколебимой Валентининой целостности, привык использовать ее образ, как пароль, — обломались.
С какими чувствами продолжит нести свой «палисадный крест» героиня после случившегося — скорбно/обреченно или просветленно/с энергией надежды, — увидеть не получится. Поскольку каноническая финальная «работа» главной героини отвергнута в угоду первой редакции пьесы. В ней же случился суицид.
Отнятое у отца в предпоследней сцене ружье стреляет за кулисами столь определенно, что понимаешь сразу: ушла вслед за Константин Гаврилычем. Не вскидывайте брови: Треплев причем? Валентина в афанасьевском спектакле в свободное от собственных реплик время, в зонах молчания самозабвенно читает Чехова («все зло от книг»:))), а Пашка, то и дело заглядывая в томик через ее плечо, озвучивает реплики из «Чайки».
Некоторых коллег завершение истории самоубийством расстроило в том смысле, что показалось упрощенно мелодраматическим.
Решительно не соглашусь.
Семнадцатилетняя чистейшей прелести девочка, живущая окнами в тайгу среди мечеткинских котлет и кефира, отцовского авторитаризма, льющейся водки, пьяного рукоприкладства, грубости, непробиваемого жлобства, девочка, безнадежно полюбившая как бы не до конца ординарного мужчину, девочка, лишившаяся девственности, содрогаясь от отвращения к не обученному тонкостям нелюбимому парню, — в экстремальный момент, по наивности кажущийся ей апокалиптическим, себя убивает. Будучи страстной, импульсивной, гипотетически сильной. Такой ее играет Елизавета Нилова.
Решение кажется мне интересным своей жесткостью, тем, что способно поднять температуру восприятия сегодняшнего зрителя с 36 градусов до, может быть, 37,7–38. Произвести в разы большее впечатление, нежели — наконец-то! — «поступок» слабака Шаманова (а уж надежда на свидетельские показания в суде — окончательно пустое в России предприятие) или водворение калитки в исходную позицию во славу непещерного поведения.
К встрече со смертью, кстати, нас подготовила прекрасная сценография Александра Орлова.
Высоченный, аж до колосников, черный тяжелый дом всем своим видом транслирует беду. Нависает вороном над единственным живым, мягко освещенным Евгением Ганзбургом окошком в «Чайную», на полках которой просматриваются сгущенка, банки с растворимым кофе (made in India), еще какие-то вещицы жизни теплой, домашней.
А Валентинин палисадник, обнесенный черной же оградой, засеянный искусственными ромашками, похож на могильный участок в ожидании креста. С первого же взгляда похож…
Трагедийная составляющая на этом заканчивается. Размеренное, традиционное в каждом жесте течение самого спектакля, увы, архиобыкновенно. Он — как сорок тысяч таких же, поставленных в разные годы по всей нашей необъятной. Не тоскую, нет — Боже избавь от прочтения «жесть», где, несомненно, на наших глазах и авансцене Пашка скидывал бы брюки одновременно с ситцевым платьицем Валентины, ну и далее — половой акт. Но поставить/cыграть так, чтобы свежо, без возникающей в сознании бытовой аналогии: «Ой, этот свитер лежит в шкафу пять лет, я о нем забыла, а моль нет…», сложно экзистенциально, с двадцатью шестью имеющимися в пьесе подтекстами, не вышло. Воздух спектакля не наэлектризован, в отличие от статично стоящего орловского дома…
Чинно разыгрывается сюжет, почти каждый выглядит, ведет себя приблизительно, как после первой застольной читки… опытный артист, чего только за свою жизнь не переигравший.
Желаемой сложности не сыскать в Евгении Ганелине. Его Дергачев честно хромает, небрит, повышает голос, требует водки, смотрит зло.
Анатолий Горин в Еремееве выходит в характерном облачении и гриме мужчины эвенкийской национальности, честно пришепетывает, смотрит грустно, тоскует о пенсии.
Мечеткин Егора Бакулина — пышнотелый крепыш в шляпе. Придурковатый, моментами смешной. Комические краски смешаны по быстрому, будто по самому первому впечатлению от характерной роли — и че тут в этот палисадник сажать? Само вырастет.
Ольга Арикова в образе Кашкиной будто специально делает все для того, чтобы зритель низвел ее героиню до совершенно обыкновенной бабы-аптекарши, женщины с пластмассовым голосом, подлинкой и квадратным желанием приватизировать мужика.
Он же, Шаманов (Александр Кудренко), в свою очередь, предъявил нам образ помятого обстоятельствами мужчины без признаков загадки, но явно страдающего. К чему так много раз в отчаянии закрывать лицо руками? Зачем в финале лежать на верхней ступеньке лестницы, ведущей в комнату Кашкиной, патетически откинув голову с романтически развевающимися волосами? Показалось, что в сцене любовного признания Валентины, когда Шаманов реагирует истерическим бегом по сцене, артисту неловко и совершать эти па, и воспротивиться режиссеру. (Тут вспомнился один уместнейший, знаменитый бег по кругу — бег Юрского в «Фантазиях Фарятьева». Так мы, помнится, ради одной этой раскаленной сцены пересматривали спектакль…)
Пашку Ивана Батарева отвергать Валентине нет никакого резона. Нет в нем развязного мужского звериного нахрапа, жлобства, глупости. Есть отличный, глубоко чувствующий парень, увы-увы, ненужный — ни любимой девушке, ни матери…
Елена Симонова (Хороших) интересна, разнообразна, смешна, сложна, органична в каждом движении.
От ее крика в лицо сыну: «Будь ты проклят!», от того, как она споткнулась об этот крик, упала, встав, посмотрела на Пашку, — бегут те самые мурашки, бег которых мы счастливы ощущать всегда, сидя в зрительном зале.
P. S. Жанр спектакля загадочен — «опрокинутая комедия». Если бы знать…