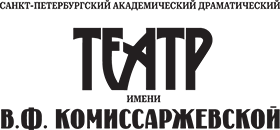16+
16+
История любви по роману Б. Пастернака
Спектакль в 2-х действиях
Постановка, инсценировка — Леонид Алимов
Сценография — Анвар Гумаров
Художник по костюмам — Фагиля Сельская
Художник по свету — Егор Бубнов
Участник Второго международного театрального фестиваля в Пекине имени Лао Шэ (Китай, 2018).
«Смерти не будет» — первое название романа в карандашной рукописи Бориса Пастернака 1946 года и эпиграф из Откровения Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Роман «Доктор Живаго» — есть величайшее художественное свидетельство ушедшего в прошлое образа жизни и уничтожения нескольких поколений незаурядно мыслящих людей.
Спектакль «Доктор Живаго» Театра им. В. Ф. Комиссаржевской — это история русского интеллигента доктора Юрия Андреевича Живаго, его любимых женщин, прошедших через его жизнь, всех тех, кто вольно или невольно оказался рядом: история людей, ставших заложниками страшных событий страны первой половины XX века. А кто победил? — дворник Маркел…
Премьера состоялась 17 февраля 2018 года
Продолжительность спектакля — 3 часа 30 минут с антрактом
Действующие лица и исполнители:
| Живаго Юрий Андреевич | Богдан Гудыменко |
| Антипова (Гишар) Лариса Федоровна | Елизавета Нилова |
| Комаровский Виктор Ипполитович | Родион Приходько |
| Антипов (Стрельников) Павел Павлович | заслуженный артист России Александр Большаков/ Александр Макин |
| Веденяпин Николай Николаевич | народный артист России Георгий Корольчук |
| Громеко Анна Ивановна | заслуженная артистка России Ольга Белявская/ заслуженная артистка России Татьяна Кузнецова |
| Живаго (Громеко) Антонина Александровна | Варвара Репецкая/ Елизавета Фалилеева |
| Шлезингер Шура | Ольга Арикова |
| Вакх | Вадим Лунгу |
| Гордон Михаил | заслуженный артист России Евгений Иванов |
| Щапов Маркел | заслуженный артист России Владимир Богданов |
| Щапова Марина | Ангелина Столярова |
| Мужик | Алексей Васильев |
| Девочка | София Погосян |
Пресса о спектакле
Леонид Алимов: Кто победил? – Дворник Маркел!..
Интервью с режиссером спектакля «Доктор Живаго» в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской накануне премьеры.
У вас, как у режиссера, нет страха перед таким большим и эпохальным романом?
Как только мы с художественным руководителем Театра им.В.Ф.Комиссаржевской Виктором Новиковым остановились на этом названии – дрожь меня естественно пробрала, хотя у меня уже и есть опыт работы над большими романами русской литературы. И, несмотря на то, что работа идет к концу, никакого успокоения нет — наоборот, волнение нарастает, хотя у нас невероятно сплоченная команда, и мы как-то сразу нашли общий язык. Я бесконечно рад, что актерская группа поверила в идею, в саму реальность того, что возможно осуществить такой масштабный замысел.
Мы сделали любопытную инсценировку: 9 человек рассказывают о жизни Юрия Андреевича Живаго, являясь одновременно и рассказчиками, и персонажами этой истории. Хотя, чём глубже погружаешься в роман, тем больше понимаешь многоступенчатость и сложность внутренней композиции этой великой книги при такой внешне мелодраматической сюжетной канве. Можно, к примеру, просто взять три главы из романа и сделать из них полноценный спектакль. В нашем случае мы попытаемся рассказать о судьбе Юрия Андреевича Живаго от рождения до смерти, отразить ее основные узлы и «закруты» и конечно же – расскажем о Женщинах, которые прошли через его жизнь, и прежде всего о Ларе Гишар. С самого начала полушутя-полусерьезно я предупредил исполнителей главных ролей (Живаго и Лары), что больше всего вопросов и претензий будет именно к ним, потому что все знают, как нужно играть в футбол, как нужно лечить – и точно знают, какой должна быть Лара и как должен выглядеть доктор Живаго.
Что вы читаете, чем напитываетесь, что вам помогает сочинять спектакль «Доктор Живаго»?
Мне интересен мир во всех его проявлениях – в литературе, в музыке, кино т.е. прежде всего мир лежащий вне социальных сетей (для меня, например, Facebook — это слово ругательное, и я эту сеть использую исключительно как рекламный столб).
Я очень литературоцентричный человек и в некотором смысле фанат русской литературы. У меня, скажу не лукавя, весьма приличная библиотека. Как только я начинаю работу над новым спектаклем, моя жена с улыбкой вздыхает и говорит: «Ну теперь будет собрание сочинений и по этому поводу…». Кстати, низкий поклон и благодарность Виктору Абрамовичу Новикову, худруку театра и, как выяснилось, заядлому собирателю книг, – он мне подарил очень много интереснейшей литературы по истории романа и всему, что связано с Пастернаком.
На каждой репетиции я обязательно 15-20 минут читаю актерам, к примеру, письма Пастернака, рассказываю какие-то интересные факты его жизни, и конечно же, все мы читаем стихи.
Менялась ли инсценировка на репетициях?
Когда я писал инсценировку, то сознательно (из-за композиционных соображений и объема) выпустил знаменитую главу «Рябина в сахаре» — про бой в партизанском отряде, когда Юрий Андреевич Живаго думает, что он случайно убил несчастного «неприятельского» мальчишку. Оказалось, что мальчишка был только ранен, и Живаго его в итоге выходил. Это величайшая строки на русском языке о том, что гражданская война – самое ужасное, что только может быть, потому как люди единые по вере и крови убивают друг друга. А когда мы начали репетировать, очевидным стало, что этой-то главы как раз и не хватает. Я посидел несколько дней над текстом, мы поработали с исполнителем главной роли и вернули эти страницы. А что-то, как ни парадоксально, сокращаем. Всё по живому.
В нашем спектакле нет ни одного «непастернаковского» слова. Инсценировка написана таким образом, что мы ничем себе не «помогали», ничего не брали из других источников — только текст романа и стихи Пастернака. Мы сохранили основные монологи Живаго, основные сюжетные линии, и хочется, чтобы все смыслы – глубоко религиозные, глубоко христианские, глубоко пацифистские – прочитались и дошли до зрителя. При всем том я хочу сказать, что это — очень нежный роман.
Какой обратной связи вы ждете от зрителей?
Очень хочу, чтобы они, посмотрев наш двухчасовой спектакль (я люблю и настаиваю на повествовании кратком, но невероятно плотном и при этом подробном) захотели бы, прежде всего, перечитать стихи Бориса Пастернака и получить такое же наслаждение от этих строк, каковое получали мы, работая над спектаклем и бесконечно перечитывая их.
О чем все-таки роман – для вас?
Я сразу же сказал об этом артистам: к сожалению, для меня это роман – о гибели русского интеллигента всерьез. О гибели не метафизической, а просто физической, это песнь-моление Пастернака о своей среде, о своей семье, о своей культуре. О гибели его поколения в эти жуткие годы, в эти страшные полстолетия России – с 1905 по 1955 гг. Автор попытался проанализировать и зафиксировать то, что он видел собственными глазами и свидетелем, участником чего был сам лично!.. А итог…В итоге – победил дворник Маркел!
А если бы Доктор Живаго писался сейчас? Про что был бы роман, и кто сейчас является «живаго»?
Сослагательное наклонение — дело неблагодарное… Может быть, про учителей и библиотекарей из глубинки? Я знаю эту среду, я влюблен в нее и был бы счастлив, если появится серьезный роман, где героями станут работник музея из Мурманска, поселковый врач из Саратовской губернии, библиотекарь из Калуги, поэт, работающий почтальоном из Нижневартовска, и так далее. Недаром и большая часть романа «Доктор Живаго», если вдуматься и посмотреть внимательно, происходит все-таки не в Москве, а, к примеру, на фронтах Первой мировой войны, куда волею судеб попал Юрий Андреевич, потом — длительное путешествие вглубь России и обратно…И еще – совершенно согласен, что это последний русский символистский роман…
Леонид Алимов поставил в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской спектакль по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Взяться за вершину творчества нобелевского лауреата и обратить сотни страниц литературного нарратива в сценический текст — задача в разы сложнее, чем «замахнуться на Шекспира».
Это театральное сочинение написано аккуратным ровным почерком. Спектаклю дан подзаголовок «история любви», но это история потерь, судьба поколения мятущихся душ, череда трагических ошибок умных, образованных, талантливых людей, чьи высокие идеалы, большие надежды и светлые мечты пошли прахом — не только благодаря наивности, беспечности или недальновидности, но и по причине суровых исторических коллизий, вывернувших наизнанку русский мир столетие назад.
В прологе девочка «пионерским» голосом читает известные строки «Гул затих. Я вышел на подмостки»: эпиграфом спектакля становится «жизнь прожить — не поле перейти». Герои и проживают, кто как может, и мы ловим в далеком отголоске, что случилось на их веку.
Сценография Анвара Гумарова сосредоточена в проржавевшем «железном занавесе». Он сплошь усеян сквозными отверстиями — пулями пробитая мишень. В нем зияют пустотой распахнутые двери, с него глядят красивые люди на старинных фотографиях, на нем титрами проступают заголовки газет. Где обывательщина — там тонетовские стулья. А если пути-дороги и поезда, коими полон роман, — то сиротливая скамья из вокзального зала ожидания.
Абсолютно не претендуя на звание музыкального спектакля, «Живаго» полифоничен. Алимов предельно внимателен к музыке, к пению, к акустическим иллюстрациям — текста ли, состояния ли, события ли. Переняв у Пастернака чуткость к конкретным мелодиям, понимая и уважая каждый выбор автора, режиссер раздает артистам музыкальные инструменты и компонует из них складные ансамбли. Чинное песнопение церковного хора — и колокола; революционные и кабацкие песни — и гармонь. Романсам вторит гитара, весть о войне сопровождает барабанная дробь. И часто беспокойным, мучительным рефреном капели дрожит одна-единственная высокая фортепианная нота.
Слово Пастернака звучит чисто. Текст от автора артисты передают из уст в уста, произносят реплики то от первого, то от третьего лица, поправляя друг друга в мелочах, но оставаясь каждый в своем характере. За вибрирующей интонацией художественных чтецов стоит не буквальное изложение сюжета, а чувственный разбор, тонкий срез культурного слоя.
Игорь Грабузов делает Живаго абсолютным москвичом: наделяет шутовскими повадками и манерой вальяжно общаться, чуть свысока и снисходительно-ласково (свитер с высоким воротом и мягкое пальто, напоминающее шинель, подчеркивают небрежность — в одежде и в жизни). Но потерянный, как у преданной собаки, взгляд выдает в нем князя Мышкина: доброго, искреннего и оттого чрезвычайно ранимого — каким играл его Смоктуновский. Здесь над всеми довлеют беда, горечь — и изумление. Персонажи в пору тяжких своих мытарств кажутся удивленными, растерянными. Так чувствует себя человек, когда у него внезапно случается
сердечный приступ — за мгновение до смерти…
Смерти не будет
Чем тут можно помочь? В силах ли мы предотвратить этот удар? Это ведь вещь роковая.
Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь.
Борис Пастернак. Доктор Живаго
Трудно представить себе произведение более несценическое, чем «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, хотя театральные режиссеры время от времени обращаются к этому тексту, и спектакль Леонида Алимова, премьера которого прошла 17 февраля 2018 года на сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской (любимых петербургских театральных подмостках писателя), – не первая его сценическая интерпретация. Если говорить о заметных постановках романа, то можно вспомнить разве что спектакль Юрия Любимова в Московском театре на Таганке (премьера состоялась 18 мая 1993 года) и масштабную постановку Бориса Мильграма (Пермский академический «Театр-Театр», премьера состоялась 30 декабря 2006 года). Временные интервалы между спектаклями очевидно говорят сами за себя.
В рассказе о глобальном движении истории, о событиях, захвативших жизни огромного числа людей, в принципе очень сложно – особенно при создании произведений визуальных – не увлечься именно этим движением пространства, не предпочесть декорации и хор судьбам персонажей, которые под натиском декораций и хора могут превратиться в плоские картонные фигурки и потеряться на фоне значительности происходящего. Читая зрительские отзывы на спектакли, можно нередко встретить мнение, что главными героями пастернаковского текста являются Революция, Гражданская и Великая Отечественная войны, что роман – не столько роман, сколько кровавая летопись первой половины XX века, и именно этого зачастую ожидают от спектакля – не столько человеческой драмы, сколько картины зрелищной гибели. На разломе времен реализм всегда становится магией и мистицизмом и судьба, отделившаяся от человеческой воли, хватает человека, тащит его куда-то, мотает из стороны в сторону и бросает в братскую могилу; парадоксальным образом в этой ситуации не имеет значения, подчиняется ли человек ходу событий или пытается им сопротивляться: сопротивление под влиянием внешних обстоятельств приводит к тому же, что и подчинение, и затертая метафора жизни как водного потока оказывается здесь как нельзя более точной – нет человека, есть щепка, соломинка, крутящаяся в водоворотах и влекомая все дальше и дальше, и придет время – ее прибьет к какому-нибудь берегу или камню, а поток помчится дальше. «Доктор Живаго» в «Комиссаржевке», однако, не мистерия и не притча, это в первую очередь именно история людей, доказывающая, в общем-то, простой тезис, что судьба человека как таковая, без попыток искусственного придания ей философской или метафизической глубины, рассказанная просто и отчасти мелодраматично, сама по себе становится рассказом о судьбе поколения, и индивидуальная история, чем более она несчастлива, тем более типична – в противовес толстовскому «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастна по-своему».
Сценография спектакля предельно минималистична: центром композиции служит черная стена-трансформер, практически полностью перегораживающая сцену. Эта стена, изрешеченная пулями, напоминающая то «железный занавес», то усыпанное звездами зимнее небо, служит, когда нужно, и домом, и поездом, и, двигаясь с тяжеловесной грацией, то прижимает героев истории к самому краю авансцены, сдвигая на обочину существования, то, отъезжая вглубь, дает им немного больше простора и мнимой свободы. В углу сцены – пианино со стоящим на крышке бокалом шампанского и небрежно брошенными женскими перчатками – как напоминание о навсегда уходящем быте московских особняков и литературных салонов. Книги. Очки Живаго, в финале остающиеся лежать на сиденье тонетовского стула. В одном из своих интервью Леонид Алимов говорит, что роман «Доктор Живаго» для него в первую очередь – книга о «гибели русского интеллигента всерьез, о гибели не метафизической, а просто физической, песнь-моление Пастернака о своей среде, о своей семье, о своей культуре» . В романе, как и в молитве, действительно практически отсутствует персонифицированное зло, разве что считать таковым адвоката Виктора Ипполитовича Комаровского (в спектакле блестяще сыгранного Родионом Приходько), погубившего отца главного героя и в конце концов разлучившего Живаго и Лару, но истинная разрушительная сила безлична и потому непостижима: она как бы пропитывает сам воздух, поглощая и подчиняя не только человеческую волю, но и волю окружающего пространства, управляя сменой сезонов, соединяя годы революции и Гражданской войны в одну невыносимо длинную зиму. «Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет». В спектакле не нарушена эта закономерность, и, хотя театру всегда тесно в литературе и он обычно стремится прибавить что-то от себя, в «Докторе Живаго» театральном нет ни одного не-пастернаковского слова. Единственное существенное отступление от текста заключается в том, что стихотворения Юрия Живаго, в книге вынесенные в заключительную семнадцатую часть после эпилога, включены в ткань повествования: спектакль начинается «Гамлетом» («Гул затих. Я вышел на подмостки…») и завершается последними строфами из «Гефсиманского сада» («Я в гроб сойду и в третий день восстану, // И, как сплавляют по реке плоты, // Ко мне на суд, как баржи каравана, // Столетья поплывут из темноты»); стихами из «Тетради» периодически говорят персонажи. Театровед и театральный критик Марина Дмитревская в статье «Поговорим о странностях любви?» замечает, что этот режиссерский прием неудачен, поскольку вызывает ощущение отчуждения стихов от Юрия Живаго, из-за чего он как бы перестает быть поэтом («Очевидно, стихи Живаго писал народ, а он, поэт, их только обрабатывал…»). На это можно возразить хотя бы тем, что без стихов Пастернака/Живаго спектакль поставить в принципе невозможно, как невозможно и вынести эти стихи за скобки, не включив их в фабулу: с тем же успехом можно было бы вовсе не ставить спектакля, а устроить поэтическую декламацию. Решение режиссера видится здесь, напротив, настолько же верным, насколько и простым: все действие оказывается заключено в рамки семнадцатой части, в которой выражен весь роман со всеми его философскими и глубоко христианскими смыслами (то, на что прозе потребовалось шестьсот страниц, поэзии хватило тридцати), и если проза – метафора действительности, то стихи – отражение посмертного вечного бытия души, то самое «человек в других людях и есть душа человека».
Нет в театральном «Докторе Живаго» и ни одной не-пастернаковской мелодии, и печальная музыка Фредерика Шопена сменяется то народным мотивом, то разудалой кабацкой песней: писатель, учившийся на композитора и больше всего на свете любивший музыку, в тексте буквально указал, какое музыкальное сопровождение должно быть у той или иной сцены, и петербургскому режиссеру, все спектакли которого традиционно очень музыкальны, удалось в точности последовать этим указаниям. Если в романе отдельным персонажем, выражением человеческой души служит природа, то в спектакле этим персонажем становится музыка и свет, то выхватывающий лучом прожектора – «стой! кто идет?!» – людей, делая их еще более одинокими и неприкаянными, чем они были до того, то погружая действие в полумрак, физически ощущаемый как холодный и промозглый.
На сцене двенадцать персонажей (сама собой напрашивается ассоциация с двенадцатью апостолами), каждый из которых одновременно является и действующим лицом, и рассказчиком. Вообще, как показывает практика, при постановках больших прозаических произведений без проговаривания авторского текста обойтись довольно трудно: проза не предполагает той свободы интерпретаций, которая есть у драматургии, не предполагает даже сокращений, поэтому то, как Алимову удалось уместить текст романа в чуть больше, чем три часа сценического действия, вызывает и удивление, и восхищение. Из «Доктора Живаго» получилась полноценная пьеса, в которой до предела сгущенные события тем не менее не сбиваются в спешке, не давая зрителю понять, что только что произошло между или с героями (тут нужно заметить, что «Доктор Живаго», судя по всему, до сих пор остается одним из наименее читаемых произведений, о которых, однако, всем известно, и едва ли более половины зрителей, пришедших на спектакль, когда-нибудь до этого читали текст Пастернака). История получилась плавной и связной, поэтичной в первых трех четвертях и такой же сухой и строгой, лишенной лирических отступлений, в последней четверти – как в последних главах романа.
Актеру Игорю Грабузову удалось создать очень точный и запоминающийся образ центрального персонажа. Высокий, худой, нервный, в большом вязаном свитере и драповом пальто, говорящий мягко и немного нараспев – похоже на то, как сам Пастернак читал свои стихи, – Игорь Грабузов, на мой взгляд, если не лучший, то уж точно один из лучших Живаго на театральной и киносцене. Нужно заметить, однако, что к этому образу у критики тотчас появились нарекания (чего ожидать было вполне справедливо, поскольку всем точно известно, как должны выглядеть, двигаться и говорить Раскольников, князь Мышкин, Наташа Ростова и многие другие герои русской литературы, и Юрий Живаго и Лара Антипова (Гишар), очевидно, из их числа).
Так, например, Марина Дмитревская в своей статье пишет: «Неприятно коробит женственно-манерная (или хипстерская) речь Живаго, удивляет как бы ничего не различающий глаз, смотрящий вдоль и поверх… По всей вероятности, Леонид Алимов так видит инакость Живаго, его странность и юродивость. Ни то ни другое, впрочем, не делает этого Юрия Андреевича ни поэтом, ни тем более доктором, как не раскрывает образа опустившегося в последних главах доктора пальто, застегнутое не на те пуговицы» . С этим сложно согласиться, хотя бы потому, что определения «приятное» – «неприятное» слишком субъективны и расплывчаты, и если у писателя есть возможность скрыться за текстом, то у актера такой возможности нет. Но действительно ли Живаго Игоря Грабузова смотрит на все взглядом вдоль и поверх, не различая очевидного? Когда больная чахоткой Анна Ивановна Громеко (Ольга Белявская) просит Юру что-нибудь ей сказать, он, потерев лоб, отвечает: «Ну что же мне сказать… во-первых, завтра вам станет лучше – есть признаки…» Эти слова можно принять за неловкое утешение или за профессиональную неграмотность, если бы не было известно, что легочным больным перед самым концом действительно становится лучше и нередко им кажется, что все идет к выздоровлению. Пройдясь еще раз из стороны в сторону, Живаго добавляет совсем не медицинское: «А затем – смерть, сознание, вера в воскресение…»
Во все времена многие самые образованные, тонко чувствующие и гуманистически настроенные люди парадоксальным образом становились на сторону революций и приветствовали начало устанавливающейся вслед за ними неизбежной диктатуры, и не сочувствие к творящим жестокость, но «дворянское чувство равенства со всем живущим» заставляет Живаго в октябре 1917 года восклицать: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали. В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого». Приплетать к месту и не к месту классиков, давать вещам, в общем-то простым и страшным, возвышенные и сложные объяснения, оправдывать смерть других и даже собственную неумолимым действием объективных законов мироздания – все это не проявления «начисто отсутствующей воли», как представляется жене доктора Тоне (Варвара Репецкая), но, скорее, внутреннее осознание собственной обреченности и готовность уступить, уйти в землю, из которой прорастет трава новой истории. Только, увы, театральная сцена устлана сеном, в него, спасаясь от снарядов и пуль, зарывается Юрий Живаго и подпоручик Осип Галиуллин (Евгений Иванов, он же играет друга Живаго Мишу Гордона), его собирает в узелки Тоня, собираясь в изгнание. В житейском смысле самый точный диагноз Юрию Андреевичу ставит дворник Маркел (в спектакле – один из самых ярких персонажей, воплощенный артистом Владимиром Богдановым): «Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а какой толк?»
Помогая в полевом госпитале Ларисе Антиповой (Елизавета Нилова) снимать с веревок выстиранные и высушенные бинты, Живаго витиевато рассуждает, заключая происходящее вокруг (война, разруха, голод, сыпной тиф) в красивые философско-поэтические формулы: «Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению. И как все растерянно-огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством». Говоря о свободе, Живаго постепенно запутывается в снятых бинтах, больше мешая, чем помогая Ларе, в конце концов стягивает их с себя, комкает и бросает бесформенной кучей. Склонный к поэзии и музыке Юрий Андреевич, выбравший для себя «общеполезную» профессию врача, совершенно не приспособлен к жизни: доктор, безошибочно ставящий диагнозы не на основании академических знаний, но благодаря тому же сопереживанию, чувству равенства со всем живущим, и вдруг запутавшийся в бинтах – метафора, которой нет в романе, но она могла бы в нем быть, как могла бы быть и сцена, в которой Живаго, попросив у Маркела воды, носит ее пригоршнями, не догадываясь взять ведро, и большая ее часть проливается сквозь его пальцы на пол, как и его собственная жизнь, превращаясь в череду потерь, невстреч и расставаний.
У спектакля есть подзаголовок – «История любви», и действительно, это прежде всего история любви Юрия Андреевича и трех удивительных женщин, прошедших через его жизнь: его жены Тони, Ларисы (Лары) Гишар и Марины Щаповой (Варя Светлова). По правде говоря, сам по себе подзаголовок немного сбивает с толку: театр склонен к сентиментальности, в целом этот вид искусства намного более сентиментален, чем литература и родственный ему кинематограф. На театральной сцене любовь – и та материя, что скрепляет сюжет, и та непобедимая сила, которая действует вопреки остальным и почти всегда побеждает, может быть, просто потому, что она так редко побеждает в жизни, и в театре зритель ищет не правды, но опровержения реальности. В этом смысле перед режиссером и актерами стояла сложная задача: любовь в романе Пастернака не побеждает смерти и не удерживает героев от ошибочных и роковых шагов, любовь не противодействует судьбе, она есть часть судьбы, может быть, даже самая трагическая ее часть, и ее красота – во многом красота обреченности; из любви, а не от безволия отдает Юрий Живаго Лару в руки Комаровского, зная, что теряет ее навсегда. Между женщинами Юрия Живаго нет противостояния, нет даже ревности, как и между Живаго и Павлом Антиповым (Александр Большаков), законным мужем Лары. И дело тут, конечно, не во внешних обстоятельствах, но в обстоятельствах внутренних, в необыкновенных людях – войны и социальные катастрофы уничтожают всех, но в основном именно таких, необыкновенных, почему-то уверенных в своем бессмертии и потому разговаривающих со смертью на равных и с вызовом. Так уходит добровольцем на фронт Павел Антипов, и так же он бросается в революцию, а Юрий Живаго – скромный интеллигент в очках – вдруг начинает спорить с ним, к тому моменту красным комиссаром, не боясь быть расстрелянным: «Я знаю все, что вы обо мне думаете. Со своей стороны вы совершенно правы. Но спор, в который вы хотите втянуть меня, я мысленно веду всю жизнь с воображаемым обвинителем…»
В аннотации к спектаклю Леонид Алимов замечает, что в результате всех трагедий истории «победил дворник Маркел», но это, очевидно, только самый небольшой фрагмент вывода, который можно сделать из спектакля, да и нужно заметить: что пастернаковский, что Маркел Щапов Владимира Богданова в своей необразованности и народной «темноте» больше обаятелен, нежели страшен (в этом смысле слова Тони, будто бы Маркел изнутри весь черный, «все равно как сажа в трубе», кажутся несправедливыми и обращенными к дворнику единственно как к представителю восставшего рабочего класса, в не к выразителю революционных идей, которых у него-то как раз и нет). Наверное, правильным будет сказать очевидное: трагедии не ведут к победам, а если и ведут, то к временным, и как одинх поглощает история, точно так же она поглощает и других. Как бы то ни было, роман Пастернака был издан в России и теперь обрел удачное сценическое воплощение, а это значит, что история в конце концов все расставляет по своим местам.
ДОБРЫЙ ДОКТОР ЖИВАГО
Писать про спектакли — занятие неблагодарное, даже когда приятельствуешь с режиссёром. Может быть, особенно. Всё-таки театр сродни жизни в чём-то. Его проживаешь. А что можно сказать про жизнь? Да, ничего, если быть честным. Это уникальный опыт. Радости, скуки, любви. Всё что говорится оказывается в каком-то смысле либо ненужным, либо уже сказанным и пошлым, либо непонятным другим. Слова, слова. Гамлет в дырявом трико. Подмостки. Леонид Алимов один из востребованных актёров и режиссёров, причём спектакль «Доктор Живаго» побывал в Поднебесной. С успехом. Вот уж интереснейшая тема… Китай, коммунизм и «их» восприятие Живаго. Их понимание предательства и потери лица. Наверное, и про это напишут…
Однако, вернёмся в зал. Если бы я был театроведом всерьёз, то, наверное, писал бы прежде всего про «школу» Льва Абрамовича Додина, какие изменения она претерпела здесь? Похоже ли это на «Братьев и сестёр»? Здесь же тоже поют, танцуют, «живут жизнь», ищут соль земли. Но как-то иначе. С мотивами уже других театральных эстетик и эпох.
Конечно, подобные спектакли — интересный способ столкнуться с историей и её интерпретацией. Сам роман более чем скандальный и противоречивый, причём оценки отрицательные получивший не только от «красных» и «номенклатуры» вроде того же Бориса Слуцкого, но, например, Набокова, которого сложно обвинить в симпатиях «большевикам» и «СССР». То, что в нынешней России продолжается «холодная гражданская война», мне кажется, довольно очевидно. Культура оказывается полем битвы смыслов. Было ли задействовано ЦРУ в этой истории публикации и продвижении романа. Говорят, было. Говорят, доказано. Документы опубликованы. Упрощает ли это дело оценки? Вряд ли…
Говоря пошловатым языком плохой журналистики, Живаго вполне себе про «космополитический гуманизм». Христианский, разумеется. Кстати, из неочевидного: «еврейский вопрос», «иудаизм и христианство». Роман получил осуждение даже из уст некоторых иудейских ортодоксов. В спектакле особо история «ветхого» и «нового» заветов вроде бы не педалируется… Не до этого. Воды бы наносить и зиму перезимовать, печурку разжечь, да поле перейти. Обилие актёрской конкретики. Подробностей. Почти натурализма.
Роман крайне запутанный и сложный по структуре. Написанный поэтическим (а часто газетно-публицистическим, даже нарочито «сниженным») языком. Тем сложней (и интересней) представить себе его сценическую версию. В этом спектакле герои часто говорят долгие монологи. Но не только. Мне как зрителю несколько раз приходилось если не сдерживать рыдания, то, по крайней мере, разгонять стада бегающих мурашек. Или это были снежинки. Мело ведь по всей земле… Однако у каждого зрителя свой камертон, свой вкус, в конце концов. Интересно, что несмотря на весь психологизм игры, это, скорее, «современный театр». Здесь есть и «хор» по отношению к герою, и сложнейшие переходы на разные уровни существования и игры, где одни условности оказываются поводом для других, и плавное перетекание одного события в другое. Тонкая и пластическая режиссёрская ткань. Изящные сценические решения. Чего стоит сцена самоубийства одного из героев… Сам режиссёр остаётся голосом за кадром иногда. Хотя бы голосом надзирателя-тюремщика.
Минималистическая, практически «рождественская» сценография. Ёлка. Печурка. Звёзды. Уместная в своей простоте. Приходя на спектакль, вы получаете шанс посмотреть на мир своей истории. Позвонить кому-то, несмотря на выключенные в основном в зале мобильные. Каждый звонит кому-то своему. Для кого-то это про «Христа», для кого-то про «репрессии», для кого-то про «поэзию», «любовь», «родину». Для кого-то про опыт их, конкретных, дедов и прадедов… Общим местом при разговоре о романе становится частный взгляд на мировую историю. Где «маленькое» больше «большого». Как совместить жизнь одного человека и историю страны, мира? Как пересекаются все эти миллионы нитей, какой узор ткётся в этом ковре.
Для меня острее всего в пространстве романа звучит тема «предательства». В самых разных значениях. И «свинья не сделает», и предательства любовные (!!!), и, может быть, самое странное предательство, когда Родина предаёт человека. Предательство Бога (Богом?) На чьей вы стороне? За белых или красных. Или это просто маскарад? Какой вам билетик, в какой ряд? Путешествие в предательство. В покаяние? В раскаянье? Кому нужно каяться и перед кем в нынешней России? Нелепо и смешно. Грустно и трагично. Наша. История. Уже давно ряженые казаки и попы с погонами. Но что-то же должно оставаться настоящим?
И, конечно, этот спектакль может вполне себе стать путешествием не только в ад отечественной истории, но и в частную поэтику Пастернака. Тут вам и свист соловьёв, и герань с жирандолью и канделябрами, и кляксы на нотных листочках, и клейкие почки на деревьях, и рукомойники, и цедра с мармеладом, и далее по списку… Можно летать над крышами, почти не держась за руку возлюбленных, в сжигающем ветре революций.
Хрестоматийная банальность в том, что талантливое произведение даёт веер (часто противоречивых) интерпретаций и толкований, биение смыслов и оценок, словно бы волны (иногда столетиями) расходятся по воде, складываясь в замысловатые узоры… Стоит ли говорить о соотношении «авторского» и «режиссёрского» в данном конкретном случае? Я не рискну это делать. Хочется верить, что создатели спектакля погружались в материал, который сам по себе был «культовым», с предельной искренностью. Вероятно, для режиссёра тема истории и её понимания важна, если вспомнить, например, его же спектакль о Сталине. Пусть как попытка прочтения. Исследователи же самого романа настаивают, что в нём есть отражения Толстого и Пушкина, Диккенса и Вальтер-Скотта, Булгакова… Полифонический разговор всех со всеми. Удел «сложных текстов». Можно ли это сделать любопытным и живым на театре? Приходите с тысячью биноклей и убедитесь в одном из вариантов.
Видеосюжеты
Видеосюжеты