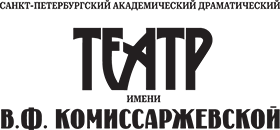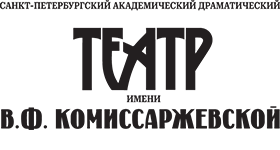Иногда простые средства — самые эффективные. Когда из-под колосников опускаются широкие стволы деревьев Михелева леса, про которые так и хочется сказать, что их кроны теряются в поднебесье, свет меркнет, издалека доносится глухой барабанный бой («это великан Михель валит свои деревья»), а позже из-за деревьев появляется высоченная фигура в черном балахоне, с гулким, словно эхо, голосом, опирающаяся на костыль — тут-то и воскресают детские ощущения от самой холодящей душу сказочной повести Вильгельма Гауфа.
Романтик Гауф переплел в «Холодном сердце» зловещие старинные легенды о лесах Шварцваальда и суровую немецкую трудовую мораль. Когда человек начинает желать что-то сверх того, что ему необходимо для жизни, в душу его проникает зло и случается порча нравов. Неслучайно, у него в повести порок приходит в Шварцваальд тогда, когда плотовщики, по наущению Михеля, сдают лес не перекупщикам, а сами отправляются в Голландию. Выручив там громадные деньги, они не умеют ими распорядиться и погибают, кто в пьяной драке, кто ограбленный ворами.
Может быть тот лаконизм, который Светлана Иванова-Сергеева — актриса, многим знакомая по спектаклям Виктора Рыжакова, и режиссер театра «Практика» делает главным принципом своей постановки, идет именно от суровой протестантской аскезы. Может быть поэтому и образы художника Дмитрия Разумова тяготеют к очень простой геометрии.
Визуальная среда среда образована двумя пологими скатами крыш дощатых белых домов. Все остальное возникает ситуативно, по ходу действия. И, повторюсь, создается очень простыми средствами. Лес — перечеркивающие сцену по вертикали древесные стволы. Горы — перечеркивающая ее по горизонтали гигантская черная «клякса». Когда по сюжету Петер становится хозяином стекольного завода, актрисы Ольга Арикова и Варя Светлова начинают выдувать мыльные пузыри, блестящие, красивой продолговатой формы.
Трактирные сцены организованы как дефиле трех счастливчиков-богачей, чьи успех и достаток приобретены в обмен на сердце. Три схематичные геометризированные фигуры, чьи пропорции искажены в соответствии с их прозвищами (Тощий. Толстый, Красивый) напоминают и эскизы каких-нибудь будетлянских силачей Малевича.
И жесткий industrial Романа Цепелева, на который положены сцены игры в кости, оказывается вдруг очень уместным.
Сон Петера, заночевавшего в лесу, тяготеет к универсальным архетипическим образам кошмара. Молчаливые фигуры с грохотом высыпают уголь на скрюченное тело Петера, практически погребая его в нем, а в опустевшие тележки начинают со звоном сыпаться монеты.
Спектакль Светланы Ивановой-Сергеевой почти лишен изобразительности. Игра объемами, полное отсутствие теплоты быта и фольклорной декоративности — все это работает на главную идею — маленького человека в мире гигантов и играющих им, испытывающих его нечеловеческих сущностей. Неслучайно, лишившийся сердца Петер (Владимир Крылов), возвращается из странствий этаким скучающим «снежным королем» в безукоризненном белом фраке. В такой же белоснежный костюм-чехол он одевает свою невесту Лизбет (Варя Светлова).
И в то же время этот спектакль кажется странно-незавершенным. Незавершенным не только в том смысле, что «недоделанным». Конечно, та простота, которой добивается режиссер, требует большой искусности — технической точности, согласованности всех выразительных средств (и смотреть «Холодное сердце» надо через месяц-два, когда пузыри будут выдуваться, а не лопаться, свет включаться вовремя, а актеры выучат текст, будут «попадать» в музыку, и, что самое главное, из их манеры уйдет суета и появится «любовь к геометрии»).
Но в том смысле, что, кажется, будто режиссер не до конца определился с задачами, или не раз меняла их по ходу действия.
Примитив как прием и примитив как качественная характеристика игры и спецэффектов здесь постоянно спорят друг с другом.
А иллюзионистские приемы — с нарочитой условностью, откровенной бутафорией.
Иногда режиссер, у которого мог бы получиться отличный спектакль вне возрастных категорий, как будто спохватывается, что она делает детский спектакль, и тогда появляются приемы и актерские ужимки, достойные самого среднего «утренника». Мы смотрим на Егора Бакулина, играющего великана Михеля и пускай его борода грубо намалевана черным гримом, это нисколько не мешает видеть в нем воплощенное зло. Но когда появляется Стеклянный человечек в красном кафтане и бороде из ваты с нарочито старческим дребезжащим голоском, мы видим в нем только ряженого «рождественского деда» из супермаркета.
Конечно, когда незадолго до финала актер Денис Пьянов (Стеклянный человечек) стягивает бутафорскую бороду и парик, показывая свое настоящее лицо, этот его «саморазоблачительный» жест подан как часть игровой композиции. Но часть — довольно случайная по отношению к целому. Потому что до этого нигде двойственность образов не обыгрывалась.
Когда включается в финале нейтральный свет, и мы видим, что чудесная шершавая фактура древесных стволов образована — всего-то — слоями намотанного на них мятого черного полиэтилена, то понимаем что рукотворное театральное мастерство даст фору любым «высоким технологиям».
Но и иллюзии тоже немного жаль.